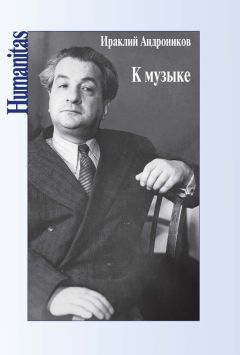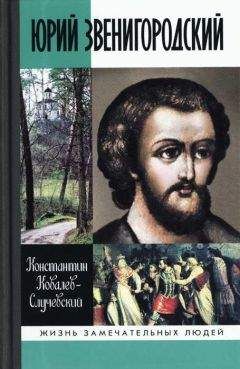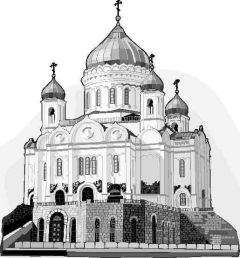Тут воспоминания опять одолели князя. Он представил себе два-три акта из «Празднества сеньора» Бортнянского, рассмеялся бесшумно, потом вдруг как бы посмотрел на себя смеющегося со стороны, понял, что отвлекся, и продолжил на полях, думая о композиторе:
«Он был артист снисходительный, добрый, любезный; попечения его сделали из меня в короткое время хорошего оперного лицедея, не зная вовсе музыки, не учась ей никогда, я памятью одной вытверживал и певал на театре довольно мудреные оперные сцены, не разбиваясь ни с оркестром, ни с товарищами, что почесть можно было диковинкой...»
Невольно пришел на ум еще один анекдот из жизни двора. Иван Михайлович припомнил, как вытверживал он наизусть арии, а мотивы запоминал с ходу, лишь только скрипач наиграет их два-три раза. Никто в Павловске не верил, что он знает арии назубок, не разбираясь в нотной грамоте.
«Я никогда не учился музыке и правил ее совсем не знал... Однако же я пел в операх и самые значительные роли, не ошибаясь ни в одной ноте, напротив, случалось иногда в квартетах, где так музыка многосложна и сбивчива, помогать другим, мурлыча про себя их партию, и всегда кстати и вовремя попадал в свое собственное место...
Сама великая княгиня, когда ей о сем доложили, не хотела верить и нарочно пришла на одну школьную репетицию, чтобы удостовериться в этом. Бортнянский сидел за своим фортепиано, у нас у всех, в том числе и у меня, ноты были в руках, всякий пел свою партию, дошла до меня очередь, и я, глядя в ноту, очень исправно пропел свой куплет.
— Как же, — вскричала великая княгиня, — государи мои, вы сказали, что он музыки не знает, да он поет по ноте!
— Извольте, Ваше Величество, приказать князю Долгорукову показать вам место на бумаге, которое он теперь протвердил, — ответствовал Бортнянский.
Государыня подошла ко мне ближе, и каково было ее удивление, когда она изволила увидеть, что не только я схватил не ту партию, которую в то время разыгрывали, но даже и бумагу держал вверх ногами, что ясно показало Ее Величеству, что никакого понятия не имел о музыкальных правилах и пел одним навыком, благодаря верному своему слуху и памяти...»
Иван Михайлович на этом месте рассмеялся, даже не успев поставить точку. Эпизод сей давнишний, в реальности наполненный массой пикантнейших деталей и подробностей, вновь отвлек его, и князь полностью отдался воспоминаниям, оставив лист бумаги. А когда вспомнил о своем намерении, решил продолжить оное занятие после, при первом же удобном случае.
Случай же не представлялся довольно долго. Тогда месяц спустя Иван Михайлович твердо постановил для себя: ежедневно, ввечеру, записывать события дня, а ежели не удастся, то в конце недели для памяти оставлять краткие пометки.
Вернувшись мысленно к своему музыкальному учителю и наставнику — Бортнянскому, Долгорукий решил для начала восстановить в последовательности то, как композитор попал в павловский кружок.
Много воды утекло с тех пор. Когда же все началось? По-видимому, в год 1776-й, когда опера «Креонт» завоевала сердца итальянской публики, когда наследник российского престола Павел Петрович отправился в Берлин, где познакомился со своей невестой, вюртембергской принцессой Софией-Доротеей. Позже, когда белокурая принцесса стала супругой Павла и переехала в Россию, она получила вместе с титулом великой княгини и новое имя — Мария Федоровна. Именно с ней, как и со всем «меньшим» двором, будут потом связаны многие творческие начинания Бортнянского, а благотворительность и доброжелательность Марии Федоровны и хозяев двора, который в свое время станет «большим», сослужат ему немалую службу в его общественных устремлениях...
Тогдашние восторженные отзывы Екатерины II и триумфальный прием прочно закрепили репутацию композитора как одного из талантливейших российских музыкантов. Но применить свои способности было не так-то просто. Для того чтобы писать музыку, слышать свои произведения, видеть ноты напечатанными и изданными, требовались по меньшей мере звание и чин. Таково уж было время. Если имя Бортнянского прогремело звонко, то должность, которой его удостоили при дворе, казалась незначительной — придворный капельмейстер, каких числилось там немало. Все главные места, все возможности для создания и постановки новых опер, музыкальных спектаклей, концертов были сосредоточены в руках все тех же итальянцев. А первым из них стал Джованни Паизиелло, мастер оперного жанра и легкой музыки — непревзойденный в своих оригинальных находках, способствовавших увеселению непритязательной публики.
Бортнянский возвратился под родной кров, где, верилось, сама судьба должна была благоприятствовать ему. И он окунулся в работу, не теряя ни минуты из тех, что оставались у него после службы. По утрам и вечерам он играет при Придворной певческой капелле, а днем идет через весь Петербург к Смольному институту благородных девиц, где руководит работой тамошнего хора. В промежутках между этими занятиями он успевает сочинять собственные хоровые произведения, отдельные романсы и песни, многие из которых позднее станут частями его больших опер, пишет церковные сочинения, как, например, свою знаменитую четырехголосную «Херувимскую».
Покупатель или книгочей, вошедший в книжную лавку где-нибудь у Сухопутного кадетского корпуса, или «у Миллера в Миллионной», или «напротив гостинаго двора в доме Шемякина», в ту часть, где продавались ноты, первым делом мог заметить изданные с особым изыском «Сочинения г. Бортнянского», напечатанные, как это отмечалось, «с одобрением самого автора». Его творческая плодовитость уже не на шутку стала беспокоить не только знатоков, но и его друзей. Одновременно такие его достоинства, как домовитость и доброжелательность, спокойствие и рассудительность, мягкость и внешнее обаяние, притягивали к нему немало людей. И все они бывали удивлены той неустанности, с какой он создавал свои произведения, быстроте, с какой появлялись на свет его новые и по сути и по форме музыкальные творения. Что ни издание — то нечто новое в русском нотопечатании. Ивану Михайловичу именитый маэстро преподнес первое выпущенное отдельно в России авторское духовное музыкальное произведение, а также песню «Dans le verger de Cythиre» («В саду Цитеры») «с аккомпанированием клавикордов», которая увидела свет отдельным выпуском. Особенно приятно было сознавать князю, что ничего подобного еще не было видано в отечественной издательской практике.
Хоры Бортнянского, написанные им в то время, распевали по всему Петербургу, они уже тогда поистине вошли в российскую музыкальную сокровищницу. Дела у Бортнянского шли весьма успешно, и он мог бы добиться еще более значительного успеха и прославиться уже хотя бы тем, что гениально продолжил музыкальные традиции, заложенные в свое время Галуппи, Березовским, Траэтто, Сарти, но, как всякий гений, он не мог прожить одну только жизнь, он успел в отведенное ему время для бытия прожить их несколько. Мотивы и традиции партесного пения уже доживали свой век. А разве мог композитор, считавшийся популярным и модным, идти тем же путем, которым шли его учителя?! И его хоры — совсем из другой эпохи. Это отточенный музыкальный язык, использование всех известных и наиболее употребительных форм музыкального выражения, это смелое включение в них бытующих светских жанров, таких, как марши, менуэты, канты. Его музыка переставала быть «заоблачной» и академичной. Сам того не подозревая, композитор, в жилах которого текла кровь выходца из украинской казацкой семьи, разбавил ее живым током ту чересчур «голубую кровь», которой, казалось, подпитывалась светская придворная музыкальная среда, и тем самым сделал удобопонятными и привлекательными в самых широких кругах свои нехитрые мелодичные творения. Он становился массово чтимым, он был, говоря языком нашего времени, демократичен в своем творчестве и потому пользовался успехом во всех слоях российского общества.