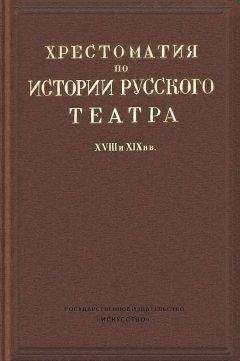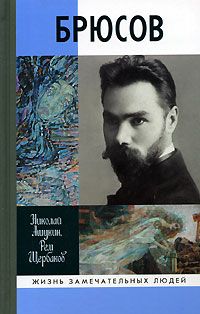В центре этой разнообразной семьи и посетителей вы видели самого М. С. Щепкина, его полную, круглую фигуру небольшого роста и с добродушным лицом. Голова его была большая, какою изображена она на бюсте его, работы художника Рамазанова. Большой лоб казался еще открытее от потери волос. Вокруг всей головы сохранившиеся еще светлорусые волосы спускались на шею, слегка завиваясь на концах. Его приятные черты лица и серые с поволокою глаза были проникнуты живостью и умом. Он много говорил; голос его звучал громко и мягко, полные губы быстро шевелились; глаза раскрывались при этом шире, и умный взгляд сопровождался энергичным движением руки, обыкновенно сжимавшейся в кулак, когда сильные слова вылетали из уст его энергично и несколько протяжно. Таков был он, когда с негодованием рассказывал о старине и о бесправности тогдашнего общества. Таким же энергичным, в движениях и речах, знала его и на сцене московская публика. Таким бывал он при горячих спорах с знакомыми или с молодыми своими сыновьями. В спорах он иногда вскрикивал и напирал на спорившего с ним, все заставляя отступать противника; он буквально прижимал его к стене, не переставая сыпать доказательства в защиту своей мысли.
Но совершенно другим бывал М. С. Щепкин в свои тихие минуты домашней жизни. Когда он оставался дома по вечерам или после обеда, он надевал свой темный коричневый халат. Около полной шеи его виднелся мягкий воротник белья; короткие полные руки складывал он обыкновенно за спиною и лениво и медленно расхаживал по комнатам молча. Только изредка обращался он в такие минуты к домашним с шуткою, пословицей или отрывком малороссийской песни, вставляя их иногда в шедший тут разговор. «Ну да, — произносил он спокойно, — аж на тын взлезла, та усих перелаяла». — Или: «просты мене, моя мила, що ты мене била»… и снова шел дальше молча. Это расхаживание вдоль всех комнат было его отдыхом, если он не ложился заснуть часок в своем кабинете. Часа через два вы видели его уже снявшим халат и одетым. И освеженный отдыхом, снова живой, вечером он отправлялся в театр и выходил на сцену. […]
Играл свои роли М. С. Щепкин всегда одинаково хорошо, потому что игра его основывалась на глубоком изучении роли и на обдуманной интонации в произношении ее. Он не полагался на одно только вдохновение, — он был великий труженик. В словах этих нет преувеличения для тех, кто хорошо знал привычки нашего дорогого артиста. Летом, когда М. С. Щепкину случалось проводить несколько времени у кого-нибудь на даче, он имел обыкновение вставать и выходить на прогулку в 6 часов утра. Медленно и тихими шагами расхаживал он по аллеям сада или парка, молча и задумавшись.
— Вы рано встали сегодня? — спрашивали его, когда все собирались уже к утреннему чаю.
— Да, ходил по аллее, — отвечал он отрывисто. — Сто раз про себя роль прочел, — прибавлял он с некоторой досадой.
Он начинал сознавать упадок памяти; она становилась не так восприимчива, как была прежде, и это заставляло его сильнее работать, даже в часы летних утренних прогулок. К изучению ролей и к репетициям М. С. относился очень добросовестно и строго; невнимательное отношение к ним и у других артистов огорчало и оскорбляло его.
(Воспоминания
Александры Владимировны Щепкиной. Сергиев посад, 1915, стр. 196–199, 201–202.) 6
Пустеет Москва… и патриархальное лицо Щепкина исчезло… а оно было крепко вплетено во все воспоминания нашего московского круга. Четверть столетия старше нас, он был с нами на короткой, дружеской ноге родного дяди или старшего брата. Его все любили без ума: дамы и студенты, пожилые люди и девочки. Его появление вносило покой, его добродушный упрек останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить облегчающие причины была школой гуманности.
И притом он был великий артист, артист по призванию и по труду. Он создал правду на русской сцене, он первый стал не театрален на театре, его воспроизведения были без малейшей фразы, без аффектации, без шаржа; лица, им созданные, были теньеровские, остадовские.
Щепкин и Мочалов, без сомнения, два лучших артиста из всех виденных мною в продолжение тридцати пяти лет и на протяжении всей Европы. Оба принадлежат к тем намекам на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России.
В разбор таланта и сценического значения Щепкина мы не взойдем; заметим только, что он был вовсе не похож на Мочалова. Мочалов был человек порыва, не приведенного в покорность и строй вдохновения; средства его не были ему послушны, скорее он — им. Мочалов не работал; он знал, что его иногда посещает какой-то дух, превращавший его в Гамлета, Лира или Карла Моора, и поджидал его… а дух не приходил, и оставался актер, дурно знающий роль. Одаренный необыкновенной чуткостью и тонким пониманием всех оттенков роли, Щепкин, напротив, страшно работал и ничего не оставлял на произвол минутного вдохновения. Но роль его не была результатом одного изучения. Он также мало был похож на Каратыгина, этого лейб-гвардейского трагика, далеко не бесталанного, но у которого все было до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал на погребение. Каратыгин удивительно шел николаевскому времени и военной столице его. Игра Щепкина вся от доски до доски была проникнута теплотой, наивностью; изучение роли не стесняло ни одного звука, ни одного движения, а давало им твердую опору и твердый грунт.
Но, вероятно, о таланте Щепкина и о его значении будет у нас довольно писано. Мне хочется рассказать мою последнюю встречу с ним.
Осенью 1853 года я получил письмо от М. К. Рейхель из Парижа, что такого-то числа Щепкин едет в Лондон через Булонь. Я испугался от радости… В образе светлого старика выходила молодая жизнь из-за гробов: весь московский период… И в какое время?!. Десять раз говорил я о страшных годах между 1850–1855, об этом пятилетнем безотрадном искусе в многолюдной пустыне. Я был совершенно одинок в толпе чужих и полузнакомых лиц… Русские в это время все меньше ездили за границу и всего больше боялись меня. Горячечный террор, продолжавшийся до конца Венгерской войны, перешел в равномерный гнет, перед которым понизилось все в безвыходном и беспомощном отчаянии. И первый русский, ехавший в Лондон, не боявшийся по-старому протянуть мне руку, был Михаил Семенович.
Ждать я не мог и утром в день его приезда отправился с экспрессом в Фолькстон.