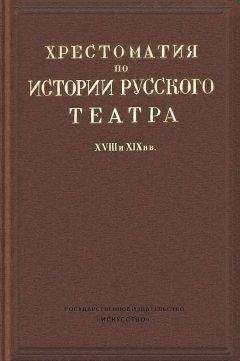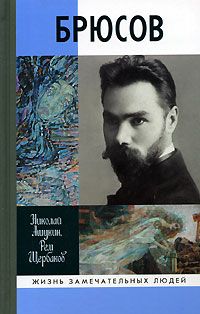Ждать я не мог и утром в день его приезда отправился с экспрессом в Фолькстон.
Что-то он мне расскажет, какие вести привезет, какой поклон, какие подробности, чьи шутки… речи? Тогда я еще так многих любил в Москве.
Когда пароход подошел к берегу, толстая фигура Щепкина в серой шляпе, с дубиной в руках, так и вырезалась; я махнул ему платком и бросился вниз. Полицейский меня не пускал, я оттолкнул его и так весело посмотрел, что он улыбнулся и кивнул головой, а я сбежал на палубу и бросился на шею старика. Он был тот же, как я его оставил, с тем же добродушным видом; жилет и лацкана на пальто также в пятнах, точно будто сейчас шел из Троицкого трактира к Сергею Тимофеевичу Аксакову.
— Эк куда его принесло! Это ты приехал эдакую даль встречать! — сказал он мне сквозь слезы.
Мы поехали вместе в Лондон; я расспрашивал его подробности, мелочи о друзьях, мелочи, без которых лица перестают быть живыми и остаются в памяти крупными очерками, профилями. Он рассказывал вздор, мы хохотали со слезами в голосе.
Когда улеглось нервное раздражение, я мало-помалу заметил что-то печальное, будто какая-то затаенная мысль мучила честное выражение его лица. И, действительно, на другой день мало-помалу разговор склонился на типографию, и Щепкин стал мне говорить о тяжелом чувстве, с которым в Москве была принята сначала моя эмиграция, потом моя брошюра «Du développement des idées révolutionaires»[36] и, наконец, лондонская типография.
— Какая может быть польза от вашего печатания? Одним или двумя листами, которые проскользнут, вы ничего не сделаете, а III-е Отделение будет все читать да помечать; вы сгубите бездну народа, сгубите ваших друзей…
— Однакож, М. С., до сих пор бог миловал, и из-за меня никто не попался.
— А знаете ли вы, что после ваших похвал Белинскому об нем запрещено говорить в печати?
— Как и обо всем остальном. Впрочем, я и тут сомневаюсь в моем участии. Вы знаете, какую роль играло знаменитое «письмо» Белинского к Гоголю в деле Петрашевского. Смерть спасла Белинского, — мертвых я не боялся компрометировать.
— А Кавелин-то? кажется, не мертвый?
— Что же с ним было?
— Да то, что после выхода вашей книги, где говорится об его статье о родовом начале и о споре с Самариным, его призывали к Ростовцову.
— Ну!
— Да что же вы хотите? Ну, ему и сказал Ростовцов, чтоб он впредь был осторожнее.
— Михаил Семенович, неужели вы уже и это считаете мученичеством — пострадать при четверовластнике Иакове советом быть осторожнее?
Разговор продолжался в этом роде. Я видел ясно, что это — не только личное мнение Щепкина; если б оно было так, в его словах не было бы того императивного тона.
Разговор этот для меня очень замечателен; в нем слышны первые звуки московского консерватизма, не в круге кн. Сергия Михайловича Голицына, праздных помещиков, праздных чиновников, а в круге образованных людей, литераторов, артистов, профессоров. Я слушал в первый раз это мнение, выраженное таким ясным образом; оно меня поразило, хотя я тогда был очень далек, чтобы понять, что из него впоследствии разовьется то упрямо консервативное направление, которое из Москвы сделало, в самом деле, Китай-город.
Тогда это еще была усталь, загнанность, сознание своего бессилия и материнская боязнь за детей; теперь Москва нагло и отважно пьет за Муравьева…
— А. И., — сказал Щепкин, вставая и прохаживаясь с волнением по комнате, — вы знаете, как я вас люблю и как все наши вас любят… Я вот на старости лет, не говоря ни слова по-английски, приехал посмотреть на вас в Лондон; я стал бы на свои старые колени перед тобой, стал бы просить тебя остановиться, пока есть время.
— Что же вы, Михаил Семенович, и ваши друзья хотите от меня?
— Я говорю за одного себя и прямо скажу: по-моему, поезжай в Америку, ничего не пиши, дай тебя забыть, и тогда года через два-три мы начнем работать, чтоб тебе разрешили въезд в Россию.
Мне было бесконечно грустно; я старался скрыть боль, которую производили на меня эти слова, жалея старика, у которого были слезы на глазах. Он продолжал развивать заманчивую картину счастия снова жить под умилостивленным скипетром Николая, но, видя, что я не отвечаю, спросил:
— Не так ли, А. И.?
— Не так, Михаил Семенович. Я знаю, что вы меня любите и желаете мне добра. Мне больно вас огорчить, но обманывать я вас не могу: пусть говорят наши друзья, что хотят, я типографию не закрою: придет время, они иначе взглянут на рычаг, утвержденный мною в английской земле. Я буду печатать, беспрестанно печатать… Если наши друзья не оценят моего дела, мне будет очень больно, но это меня не остановит, — оценят другие, молодое поколение, будущее поколение.
— Итак, ни любовь друзей, ни судьба ваших детей?
Я взял его за руку и сказал ему:
— Михаил Семенович, зачем вы хотите мне испортить праздник свидания? Я в Америку не поеду, я в Россию при этом порядке дел тоже не поеду, печатать я буду, это — единственное средство сделать что-нибудь для России, единственное средство поддержать с ней живую связь; если же то, что я печатаю, дурно, скажите друзьям, чтоб они присылали рукописи — не может быть, чтоб у них не было тоски по вольном слове.
— Никто ничего не пришлет, — говорил уже раздраженным голосом старик. Мои слова его сильно огорчили, он почувствовал прилив в голове и хотел послать за доктором и пиявками.
На разговор этот мы не возвращались. Только перед отъездом в амбаркадере он грустно сказал, качая головой:
— Много, много радости вы у меня отняли вашим упрямством.
— М. С., оставьте каждого итти своей дорогой, тогда, может, иной и придет куда-нибудь.
Он уехал; но неудачное посольство его все еще бродило в нем, и он, любя сильно, сильно сердился и, выезжая из Парижа, прислал мне грозное письмо. Я прочитал его с той же любовью, с которой бросился ему на шею в Фолькстоне, и — пошел своей дорогой.
Прошло пять лет после моего свидания с Михаилом Семеновичем, и русский станок в Лондоне снова попался ему на дороге. Дирекция московских театров задерживала какие-то экономические деньги, которые следовали в награду артистам. Тогда было время рекламаций,[37] и артисты избрали Щепкина своим ходатаем в Петербурге. Директором тогда был известный Гедеонов. Гедеонов начал с того, что отказал наотрез в выдаче денег за прошлое время, говоря, что книги были контролированы и возвращаться на сделанные распоряжения было невозможно.
Разговор стал упорнее со стороны Щепкина, и как разумеется, дерзче со стороны директора.