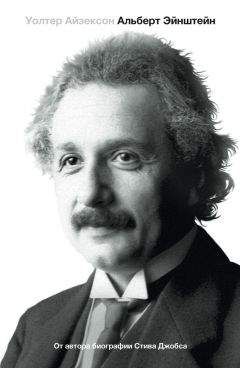После дискуссий, которые могли продлиться всю ночь, Эйнштейн иногда играл на скрипке, а в летнее время они иногда отправлялись в горы, окружающие Берн, и встречали там рассвет. “Вид мерцающих звезд производил на нас сильное впечатление и вдохновлял на разговоры об астрономии, – вспоминал Соловин. – Мы были зачарованы медленным приближением солнца к горизонту, которое наконец появлялось во всем великолепии, чтобы залить мистическим розовым светом Альпы”. Потом они ждали, пока откроется кафе, расположенное в горах, чтобы выпить черного кофе, прежде чем спуститься вниз и засесть за работу.
Соловин однажды пропустил заседание, которое должно было проводиться в его квартире, поскольку его соблазнили отправиться в это время на концерт чешского квартета. В качестве извинения он оставил яйца и записку на латыни: “Крутые яйца и приветствие”. Эйнштейн и Габихт, зная, как Соловин ненавидит запах табака, в отместку курили в его комнате сигары и трубки, навалили мебели и тарелок на кровать и оставили записку, тоже на латыни: “Густой дым и приветствие”. Соловин рассказывал, что, вернувшись домой, “почти задохнулся” от дыма: “Я думал, что задохнусь, широко открыл окно и стал снимать с кровати груду нагроможденных почти до потолка вещей”78.
Соловин и Габихт останутся друзьями Эйнштейна на всю жизнь, и впоследствии он будет вспоминать о “нашей веселой академии, которая все же была менее “несерьезной”, чем те респектабельные организации, которые я позже узнал поближе”. В ответ на поздравительную открытку к его семьдесят четвертому дню рождения, посланную двумя его товарищами из Парижа, он в шутливой форме, обращаясь к “Академии Олимпия”, написал: “Ваши члены создали вас, чтобы посмеяться над вашими давно созданными сестрами-академиями. Насколько точно их ирония попала в цель, я смог вполне убедиться за долгие годы тщательных наблюдений”79.
Круг чтения в “Академии” включал книги классиков на темы, которые интересовали Эйнштейна, например пронзительную пьесу Софокла о неповиновении власти – “Антигона”, эпический роман Сервантеса об упрямце, борющемся с мельницами, – “Дон Кихот”. Но чаще всего три “академика” читали книги, в которых переплетались научные и философские темы: “Трактат о человеческой природе” Давида Юма, “Анализ ощущений” и “Механика в ее историческом развитии” Эрнста Маха, “Этику” Баруха Спинозы и “Наука и гипотеза” Анри Пуанкаре80. Именно под влиянием этих авторов молодой патентный эксперт начал разрабатывать собственную философию науки.
Из всех этих авторов наибольшее влияние на Эйнштейна оказал шотландский эмпирик Давид Юм (1711–1776). Следуя традициям Локка и Беркли, Юм относился скептически ко всем знаниям, кроме тех, которые могут быть непосредственно восприняты органами чувств. Даже очевидные законы причинности у него попали под подозрение: он считал, что это не законы, а просто привычки ума. По Юму, то, что мяч, сталкивающийся с другими мячами, каждый раз ведет себя в точном соответствии с тем, что предсказывают законы Ньютона, не означает, строго говоря, что в следующий раз он будет вести себя аналогично. Эйнштейн отмечал: “Юм ясно видел, что определенные концепции, например концепция причинности, не могут быть выведены логическим путем из нашего восприятия действительности”.
Одна из версий этой философии, иногда называемая позитивизмом, отрицала справедливость любой концепции, выходящей за рамки описания явлений, которые мы непосредственно воспринимаем через опыт. Такие взгляды импонировали Эйнштейну, по крайней мере вначале. “Теория относительности корнями уходит в позитивизм, – говорил он, – это направление мысли оказало громадное влияние на мои исследования, особенно работы Маха и даже больше – Юма, чей “Трактат о человеческой природе” я жадно и с восхищением изучал незадолго до открытия теории относительности”81.
У Юма он нашел подтверждение своему скептическому отношению к концепции абсолютного времени. Юм говорил, что не имеет смысла считать время абсолютной сущностью, не зависящей от наблюдаемых объектов, движение которых позволяет нам определить время. “Идею времени мы образуем из последовательности идей и впечатлений, – писал Юм, – время же само по себе никогда не может предстать перед нами или быть замечено нашим умом” [12]. Идея о том, что нет такой вещи, как абсолютное время, позднее отозвалась эхом в теории относительности Эйнштейна. Конкретные идеи Юма об абсолютном времени, однако, меньше повлияли на него, чем его более общее убеждение, что рискованно говорить о концепциях, которые нельзя проверить с помощью органов чувств или наблюдений82.
Вслед за увлечением Юмом к Эйнштейну пришло увлечение философскими идеями Иммануила Канта (1724–1804) – немецкого метафизика, с трудами которого его еще в школьном возрасте познакомил Макс Талмуд. Эйнштейн про него говорил так: “Кант вышел на сцену с идеей, которая ознаменовала продвижение в решении дилеммы Юма”. Некоторые истины попали в категорию “точно установленного знания”, которое “основано на самом разуме”.
Другими словами, Кант различал два типа истин – аналитические суждения, исходящие из логики и “самого разума”, но не из наблюдений за миром (например, “все холостяки не женаты”, “два плюс два равно четыре”, “сумма всех углов в треугольнике составляет 180 градусов”), и синтетические суждения, основанные на опыте и наблюдениях (например, “Мюнхен больше Берна” или “все лебеди белые”). Синтетические суждения могут быть пересмотрены при появлении новых эмпирических фактов, а аналитические – нет. Мы можем обнаружить черного лебедя, но не можем обнаружить женатого холостяка или треугольник с суммой углов 181 градус (по крайне мере, так считал Кант). Эйнштейн сказал по поводу первой категории истин по Канту: “Они включают, например, положения геометрии и принцип причинности. Эти и некоторые другие типы знаний… не должны быть предварительно получены с помощью ощущений, другими словами, это априорные знания”.
Эйнштейн вначале посчитал удивительным то, что некоторые истины могут быть открыты с помощью чистого интеллекта. Но вскоре он начал сомневаться в четком разделении кантовских аналитических и синтетических суждений. “Мне кажется, что объекты, с которыми имеет дело геометрия, – писал он, – не отличаются от объектов чувственного восприятия”. А позднее это кантовское различие он отвергнет как ошибочное: “Я убежден, что эта дифференциация ошибочна”. Суждение, которое кажется чисто аналитическим, – например, что сумма углов в треугольнике равна 180 градусов, – может оказаться ошибочным в неевклидовой геометрии или в искривленном пространстве (как это произойдет в общей теории относительности). Как он позже сказал о концепциях в геометрии и принципе причинности, “в настоящее время всем, разумеется, известно, что упомянутые выше понятия не обладают ни достоверностью, ни внутренней определенностью, которые им приписывал Кант” [13]83.