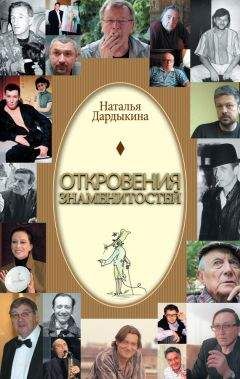И не только с артистами! Съемочная группа — это пестрая общность, состоящая из людей самых разных профессий, склонностей и характеров. Стало быть, режиссер — это еще и психолог, и дипломат. Он же организатор и педагог, он же — сам себе судья и первый зритель, не имеющий права обольщаться. Вот кто такой, оказывается, режиссер! От подобных открытий я приходил в уныние и завидовал своим более уверенным однокурсникам. Впрочем, завидовал напрасно. Никто из нас еще не умел быть себе судьей, не обольщаясь. Меня, например, нередко приводила в телячий восторг какая-нибудь собственная придумка, а потом я замечал на чужих лицах недоумение и скуку.
Мы постоянно нуждались в свежем, стороннем глазе. Советы и оценки ассистентов Юткевича были расплывчатыми и невнятными. Уж очень они осторожничали и теоретизировали. Однажды ко мне подошел Резо Чхеидзе и пригласил зайти вечером на репетицию. Наше первое знакомство произошло при смешных обстоятельствах. Однокурсник Резо, Тенгиз, попросил показать ему какой-нибудь большой московский рынок, где можно купить теплое пальто. Я, конечно, повел обоих на Тишинку. Консультировать их не пришлось, потому что у входа их окликнули другие грузины. Они поговорили на своем языке, и Тенгиз пошел с ними куда-то в толпу. «Помогут пальто купить», — объяснил Чхеидзе. Действительно, вернулся Тенгиз с большим узлом. Мы тут же поехали в Зачатьевку вспрыскивать обновку. При большом скоплении народа пальто надели на Тенгиза. Пальто было со странными рюшечками на плечах, приталенное и с вытачками впереди. «Тенгизик! Это женское пальто!» — крикнула какая-то девчонка. Усатый Тенгиз в пальто с рюшечками выглядел уморительно. Но больше всего его удручало то, что обманули его земляки.
Реваз Чхеидзе и Тенгиз Абуладзе перешли во ВГИК из тбилисского театрального института. Русский язык они знали не очень хорошо и выбрали для постановки отрывок из книги какого-то грузинского классика. Репетировали, конечно, тоже на грузинском. Они не только ставили свой отрывок как режиссеры, но сами его и разыгрывали как артисты. Потребность в «стороннем глазе» была очевидная. Вот тогда они меня и пригласили. Сперва грузины пересказали мне содержание сцены, а потом ее сыграли. Два вороватых чиновника, прослышав о приезде высокого начальства, препираются, сваливая друг на друга свои неприглядные делишки. Они при этом невольно саморазоблачаются. Но грозный начальник не приезжает, так как сам за такие же грешки попал в тюрьму. Чиновники узнают об этом, бурно радуются и поют про «гвино, дудуки и кале-би», т. е. про вино, музыку и женщин. Вот и все.
Мне на репетиции у грузин понравилось. Они импровизировали, придумывали на ходу новые сюжетные повороты
и менее всего заботились о «правдоподобии» и «естественности», которых требовали от нас осторожные ассистенты нашего мастера. Ребята играли вовсю, играли азартно, с полной верой в происходящее. Заражала и убеждала именно эта их вера. Слов я, конечно, не понимал, но, невольно вовлекаясь в их игру, даже пытался что-то предлагать. Предложения мои, касательно мизансцен и физических действий, по незнанию языка, нередко вступали в смешные и неожиданные противоречия с диалогом. И тут мы смеялись и радовались вместе. Для меня это была интересная, важная встреча. Она мне кажется важной и теперь, много лет спустя.
Ассистенты Юткевича, сам Юткевич, преподаватели истории искусства и литературы во ВГИКе, а также наш главный марксист Степанян не зря осторожничали и туманно теоретизировали. Они просто не знали, как объяснить нам некоторые вещи и даже побаивались объяснять. События в кинематографе происходили тревожные. Общеинститутские проработки стали уже привычным обрядом. Например, во ВГИК приезжал какой-нибудь товарищ из ЦК или из Кинокомитета и публично зачитывал текст «Постановления о кинофильме "Большая жизнь"».
В зрительном зале собирали студентов младших курсов — мы были здесь просто участниками массовки, а старшекурсникам и членам партии поручались уже «эпизодические роли». Старшекурсники должны были «дискутировать». Каждого оратора инструктировали в партбюро и утверждали заранее написанный для него текст. Все выступления были пересказом того же постановления, но в свободном изложении. Каждое выступление завершалось осуждением авторов картины за допущенные ошибки.
В президиуме обычно сидели известные режиссеры и педагоги. Иногда огонь критики обрушивался и на них. Так было неоднократно с Эйзенштейном. На одном мероприятии его громили за формализм, а уже через месяц — за вторую серию «Ивана Грозного». В ритуал входило также и раскаяние критикуемых. Те, кто был поопытнее и обладал чувством юмора, внешне держались спокойно. Например, Эйзенштейн, которому всегда было недосуг, просил принести ему в президиум бутерброды и чай. Пока Эйзенштейна критиковали, он ужинал, а потом уж признавал ошибки.
Зато Лев Кулешов очень болезненно переживал обвинения в формализме.
— Друзья! — со слезами восклицал Кулешов, — я уже стар, я уже не режиссер, а просто охотник-любитель!
Всем было известно, что Кулешов увлекается охотой.
— Это отговорка, товарищ Кулешов! — гремел в ответ Степанян.
Наивные первокурсники с испугом глядели на своих ошельмованных кумиров. Детски незамутненным разумом мы понимали — что-то здесь не так — на одном собрании кого-нибудь громят за «очернение действительности», а на другом уже корят за «лакировку» той же самой действительности. Режиссера Лукова ругали за то, что в его фильме «Большая жизнь» в донецких шахтах показано допотопное оборудование. А откуда взяться современному, если только что закончилась разрушительная война и в этих шахтах похозяйничали оккупанты? Руководитель из Кинокомитета разъяснил нам, что киноискусство призвано отражать не то, что есть в жизни, а то, что должно быть. И тут уж мы совсем ничего не поняли.
Деморализованные педагоги писали друг на друга доносы. А преподаватель истории и теории музыки Шухман написал донос, можно сказать, на самого себя. Это был тихий, застенчивый человек, автор известной песни «Эх, картошка-тошка-тошка! Пионеров идеал!». Шухман решил перестраховаться и ударить по формализму с опережением. Однажды он явился на лекцию и заявил нам, что врага нужно хорошо знать и что это — «залог победы».
«Я вас познакомлю кратенько, — сказал он, — с историей формализма в музыке». Оказывается, первую формалистическую фугу написал какой-то монах-францисканец еще в четырнадцатом веке. Но досказать про францисканца Шухман не успел, потому что на следующий день был уволен «за мракобесие и пропаганду формализма в музыке». Формулировку подсказал один из его же коллег-преподавателей.