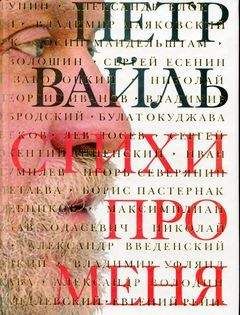Еще страннее, чем само приглашение, было указание места — Заюосала, Заячий остров. Сейчас там стоит телецентр с башней, а в те времена этот остров посреди Даугавы был поразительным деревенским анклавом в центре города. Плоский трехкилометровый кусок суши шириной метров в двести-триста с сельскими домиками, почти избами, которые на большой рижской земле сохранялись разве только в дальних уголках Московского форштадта. Большинство рижан, всю жизнь проживя в городе, никогда не бывали на Заячьем, да и незачем. Остров, он и в городе остров. За семнадцать лет в Нью-Йорке я всего однажды оказался на Рузвельт-Айленде, хотя он между Манхэтгеном и Квинсом посреди Ист-Ривер: специально поехал стереть белое пятно. Всего однажды до Танькиной свадьбы был и на Зайчике: приятели туда ходили ловить рыбу, я этим не увлекался, но варить уху умел и любил.
Приехал на полчаса раньше, чем предписывалось в открытке, и с букетом и гэдээровским кофейным сервизом пошел прогуляться. Стоял август, за косыми дощатыми заборами гнулись от белого налива яблони, у ворот ходили куры, по пыльным неасфальтированным улицам изредка проезжал колесный трактор, из окон с резными наличниками высовывались головы в платках. Непохоже, что рядом, за речкой, — готика, брусчатка, дома стиля модерн. Непонятно, что делает на Зайчике центровая светская Татьяна.
Она оказалась так же хороша, только пополнела. Белое платье скроили умело, но приглядевшись, я понял, что пополнела она специфически. Что-то, даже очень многое, объяснялось: потому что ни жених, шофёр с киностудии, ни его родители, аборигены Закюсала, ни свадебные гости не имели ничего общего с прежней Танькой. То-то ее мать, доцент из Политехнического, не присутствовала. Знаком мне тут был только ее брат, очкарик в рекордных прыщах. Прыщи не уменьшились со времен Брехта, брат протянул мне мягкую руку и сказал: "Как сам себя чувствуешь, старик? Всё антик-плезир?"
Позже я догадался, что меня позвали как представителя образованного сословия для укрепления статуса невесты: все остальные Татьянины знакомые, бывшие возмущенными свидетеля ее падения и мезальянса, отпали. Меня, надолго выпавшего из жизни по случаю армейской службы, никакое знание не обременяло.
На столах обильно разложились изделия сельской кулинарии — пироги, кулебяки, жирные мяса, горы цыплят. С огородов Зайчика — картошка, помидоры, капуста, пучки сельдерея. В графинах — закрашенная черным бальзамом водка. Понесли подарки. Под общий громовой хохот — детскую коляску. Танька сильно покраснела и быстро взглянула на меня и еще — на высокого парня с рыжей бородкой в переливчатом галстуке, моряка дальнего плавания, как мне его только что представили. От родителей — румынский мебельный гарнитур, его так и вносили предмет за предметом. Места много: свадьбу устроили в гигантском ангаре местной пожарной части.
Обе алые машины отогнали на лужайку за зданием, там же сложили лестницы, рукава, топоры, лопаты, тремя высоченными стопками составили ярко-красные вёдра. Будучи сам уже полгода пожарным Рижского электромашиностроительного завода, я со знанием дела обследовал инвентарь, заглянул в каптерку, где на лавке беспорядочным ворохом лежали куртки, штаны, каски, пояса с огромными тусклыми бляхами. Убедился, что в случае какого-либо возгорания на Зайчике весь остров беспрепятственно сгорит дотла, и пошел знакомиться с коллегами. Караул в составе семи пожарных нес свое суточное дежурство за отдельным столом. Торжественность момента здесь ощущалась слабее, что естественно: я-то понимал, что в точно такой же деятельности проходила каждая смена, только обычно закуски меньше.
Подношение подарков продолжалось. Вазы чешского хрусталя, стриженые ковры, кастрюли. Моряк, выждав паузу, вынул из-под стола красную кофемолку. Все бросились смотреть, из кучи-малы слышались сдавленные крики: "Умеют же, как умеют!", "Вот одну на кухне поставить — и ничего не надо!", "Постой, она ж не на двести двадцать!", "А трансформатор, а трансформатор, у меня дома есть, сейчас принесу".
Бледный молодой человек, не глядя на жениха, протянул Татьяне журнальную репродукцию в самодельной багетной рамке — какая-то вода, мостик, цветы. "Тань, это твоя любимая, помнишь?" Жених нахмурился, невеста зарозовела. Брат снял очки, вгляделся и веско произнес: "Клод Моне. Импрессионизм".
Появился поп. Диковинность нарастала. Оказывается, утром Татьяна со своим шофером венчались в церкви Александра Невского на Ленина. Поп попел немного и сел с родителями. Пир был пущен.
После мяса и овощей стол густо покрыли сласти. К этому времени обстановка сделалась непринужденной. Караул устал, а поскольку на дежурстве, то все семеро привычно и умело заснули, кто где сидел. Моряк открыто перемигивался с невестой, а поймав мой взгляд, отнес его к галстуку и с достоинством сказал: "Ага, "Тревира". Других не ношу".
В открытые ворота ангара было видно, как у пожарной машины надрывно блюет бледный даритель импрессионизма. Брат заводил со мной интеллигентный разговор: "Как дела в мире животных, старик? Ну и что мы думаем о Маркесе? Имею в виду, разумеется, Габриэля Гарсию". Моряк взял гитару, заложил спичкой две струны, оставив четыре под аккорд, вынул изо рта трубку и запел: "У Геркулесовых столбов лежит моя дорога..." Танька смотрела на него во все красивые глаза, приоткрыв красивый рот. Жениха в дальнем углу инструктировали по мебельной сборке. На караульный стол водрузили радиолу "Дзинтарс", врубили на полную мощность забытое и сиплое, пожарная охрана не шелохнулась. Начались танцы.
Средний возраст свадебной публики приближался к пенсионному: понятно, что пригласили островной истеблишмент, к которому принадлежала семья жениха. Распуская пояса на вздувшихся животах, вихрем закружились потные королевы Зайчика и их лысые мужья в черных костюмах. Сквозь бешено несущиеся пары протолкался, подняв бокал, отец жениха, завопил "Моя Марусечка, попляшем мы с тобой!" и с видом удальца ударился вприсядку, не выпуская бокала. Его Марусечка неожиданно проворно пустилась в пляс, сложив руки под тяжелыми грудями. Бобина докрутилась до конца, большая стая мясистых баб приземлилась на лавке вдоль стены и, вытягивая шеи, запела — "Черные глаза", "Счастье мое", "Лунную рапсодию". Ополоумев от вытья, я побрел наружу.
Ранний августовский вечер был дивно хорош. Перемещение во времени и пространстве происходило ощутимо. Подняв голову, можно было разглядеть на левом берегу Даугавы серые полчища заводов, на правом — шпили Домского собора и церкви Екаба, но если не поднимать и смотреть перед собой — средняя полоса, какой-то Валдай, другая эпоха. Удивление и водка с бальзамом соединились, меня повело, руки ухватились за что-то, это что-то пошатнулось тоже, и вдруг все страшно, раскатами, загремело. Я зажмурился, а когда открыл глаза, увидел картину, за которую дорого бы дал Моне: на широкой зеленой лужайке валялись десятки алых пожарных ведер.