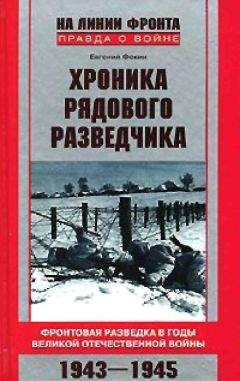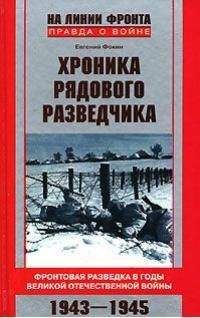Вскоре за спиной начало светлеть. По небу пробежали лучи, и из-за горизонта выкатилось по-зимнему большое, ярко-красное солнце. Ветер стих. Над траншеями по-прежнему висела готовая в любой момент взорваться, зыбкая, сторожкая тишина. Не верилось, что нахожусь на передовой.
Время шло. Высота, подсвеченная с востока низким солнцем, вся искрилась и переливалась, от сверкающей белизны выпавшего накануне снега резало глаза. На него можно смотреть лишь прищурившись. Чуть ниже, как траурной рамкой, она была в два яруса опоясана проволочной спиралью Бруно. Справа, у подножия северного ската, почти у самой проволоки, ссутулясь, громоздился припорошенный снегом немецкий бронетранспортер, подбитый еще в осенних боях. Линия заграждения в этом месте круто ломалась и уходила на северо-запад. Мы знали, что под бронетранспортером окоп, в котором не раз при выполнении заданий устраивались на перекур. Если уж и не согревались, то «отогреть душу» успевали.
В разговорах незаметно бежало время. Замечаю и появившегося в траншее офицера-артиллериста, младшего лейтенанта Ершова с двумя солдатами-телефонистами. Стрелки часов приближались к десяти. И снова последовала команда о переносе операции. Отдельные солдаты полезли в вещмешки и стали извлекать из них и весело похрустывать сухариками. Смотрю на них, а у самого слюнки готовы потечь. Утром рядом не оказалось доброй мамаши, которая бы сунула в руки хотя бы бутерброд. После более чем скромного ужина во рту не было ни маковой росинки, и, поскольку в животе посасывало, разведчики старались не глядеть на жующих пехотинцев.
Неожиданно мое внимание привлекло возникшее оживление в траншее. Среднего роста скуластый паренек что-то рассказывал, а стоящие вокруг от души смеялись.
— А это наш комиссар, — пояснил один из солдат, когда я подошел к ним вплотную.
— Ефрейтор Юсупов, — отрекомендовался он, — комсорг роты. Побывал в двух взводах, теперь вернулся в свой, родной.
— Это хорошо, — одобрил я, — вместе в бой пойдем. А сколько комсомольцев во взводе?
— Десять, но ребята надежные.
— Мы пятеро тоже комсомольцы, так что теперь уже пятнадцать, — добавил я.
— А нас пошто забыл, паря? — вступил в разговор средних лет солдат, хитро поблескивая из подшлемника прощупывающими смеющимися глазками, судя по выговору — сибиряк. И, не дав Юсупову ответить, он настойчиво продолжал: — Не помню, кто-то из наших поэтов сказал — я стар и сед, но комсомольцем юным останусь навсегда. Так что и нас всех бери под свое комиссарство.
Стоящие рядом одобрительно закивали.
— Хорошо. Пусть будет по-вашему, но от нас не отставать.
Текут, текут, хотя и медленно, минуты томительного ожидания, но бег времени неумолим. Наблюдаю за солдатами, прислушиваюсь к их разговорам, отвечаю на вопросы. Их девятнадцать. Каждый из них уникален своей непохожестью, по-своему глядит на мир и на предстоящий бой. Особенно остро это ощущаешь в последние минуты перед боем. Предстоящий бой — этот ли, другой ли — никого не оставляет равнодушным, у каждого в голове свои думы, свои мысли о том, что сейчас произойдет. Все дело в занятости солдата и офицера. Командиру приходится продумывать, проигрывать в своем сознании весь ход предстоящей операции, ставить себя в положение противника. У него нет времени думать о себе, да его практически на это и не остается. От солдата требуется другое — выполнить приказ. Это требует огромной эмоциональной нагрузки, готовности трезво и осознанно идти в бой и, если надо — на смерть. А это не так просто.
Замечаю, что бойцы приглядываются ко мне вопрошающе и пытливо. По себе знаю, им надо помочь, особенно новичкам. Держу в поле зрения и комсорга. Чувствую, что наше присутствие в гуще солдат, живое общение с ними комсорга создает моральный климат, сплачивает их. Не раз замечал, что именно комсорги и парторги рот и батальонов своим непосредственным участием в бою, нахождением бок о бок с солдатами делали большое государственное дело. Они исподволь готовили души к бою, выводили порой из тягостного, стрессового состояния ожидания, вливали живительную силу, нацеливали на подвиг, увлекали за собой. И солдаты, особенно новички, тянутся к ним. Я смотрю на солдат и думаю, что истекают последние наши минуты пребывания в тишине. Многим уже не увидеть друг друга. Даже как-то не по себе становится от этого, вполне закономерного на войне, предчувствия. Мое спокойствие — показное, мысли и чувства — как натянутые струны.
— Ну что, хлопцы, еще разок пройдем по траншее, подбодрим ребят, — предлагаю своим товарищам-разведчикам.
Они уходят, я тоже еще раз решил обойти пехотинцев. И не для того, чтобы убедиться в их готовности к бою. Мне хотелось каждому из них заглянуть в глаза — зеркало человеческой души и подбодрить их словом, внушить, что все будет хорошо. Наблюдаю за ними и стараюсь угадать: вот этот «окающий» в разговоре — наверняка «вятский», а вот этот долговязый, пожилой, с въевшейся в поры лица угольной пылью — шахтер; или вот этот — молоденький очкарик — по-видимому, студент… Разными и по разительно одинаковыми сделала их солдатская одежда. У большинства пехотинцев видны только глаза с прихваченными инеем бровями да посиневшие губы, видневшиеся у обледенелого края подшлемника. Внешне они разнятся ростом, но я чувствую, начинаю постепенно улавливать — мы теперь боевой коллектив. И все хорошее, и все плохое разделим по-братски.
За те часы, которые мы провели здесь вместе, вот в этой траншее, они мне стали близкими и дорогими. Да и взвод стал для меня не просто первичным тактическим подразделением пехоты, а конкретными лицами солдат. И только горько становилось от мысли, что скоро свинец начнет делить нас на живых и мертвых. И мне, признаться, их становится искренне жаль. Ведь через несколько минут наступит тот момент, которого мы все ждем, — поднимемся из стылых, дышащих холодом траншей и пойдем вперед. И не верилось, что месяц тому назад, когда ноябрь часто плакал холодными слезами, в траншеях выше щиколоток постоянно хлюпала и беззастенчиво лезла в сапоги ледяная влага.
А теперь над головой ярко светило, резало глаза холодное январское солнце, а небо — по-летнему иссиня-голубое — казалось бездонным.
Наконец по окопам разнеслось: «Приготовиться!» Солдаты расходятся по ранее присмотренным местам или выдолбленным в обледенелых стенах ступеням, где им удобнее выскочить из траншеи. Заядлые курильщики делают последние, самые сладкие затяжки. По себе знаю — хоть и жжет губы огонь, хоть горяч и горек окурок и в руках-то его не удержишь, а все сосешь, еще и еще разок хочется до слез затянуться, отвлечься от тягостного ожидания боя.