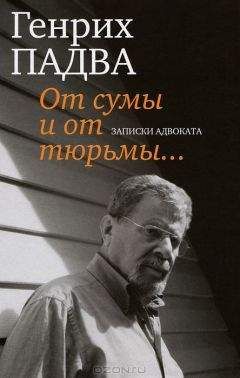Коров подвязывали, чтобы они не упали от бескормицы, потому что если они падали, то уже не поднимались, а так у них сохранялась некая видимость жизни. Подвязывали их так, как будто они стояли на ногах, копытами касались земли, но при этом висели на веревках, потому что выдерживать собственный вес их ноги уже не могли. Я потом это видел в кинофильме Алексея Салтыкова «Председатель». Помню, как некий критик, которому в целом понравился этот фильм с гениальным Ульяновым в главной роли, говорил, что подвязанные коровы — это уж преувеличение, которое негоже вставлять в реалистический фильм. Я не стал с ним спорить. Он просто судил о том, чего не знал и не видел. А я видел это собственными глазами.
Кстати, именно в этих поездках по местным деревням я имел возможность почувствовать разницу между отношением к своему, личному, и к колхозному. Когда у агронома, в избе которого я остановился, отелилась корова, теленочка взяли в дом и ухаживали за ним гораздо заботливей, чем за мной, гостем. И на огороде у агронома был такой порядок, что залюбуешься. А как растили ту же картошку на колхозных полях — без слез смотреть было невозможно!
Еще я иногда ездил по деревням, чтобы выколачивать из местных баб-колхозниц (мужиков-то почти не было!) деньги на заем[15]. Ох, уж как они меня проклинали! Тогда ведь все были абсолютно нищие, работали не за деньги, а за трудодни, на которые практически ничего не выдавали.
Колхозы в Погорельском районе были невероятно бедны. В войну они были под немцами, после войны хозяйства так и остались без мужиков, избы в деревнях стояли ветхие, вросшие в землю, многие без стекол — со слюдой в слепых окошках. Окошки не отворялись, форточек, как правило, не было. Духота, смрад, голозадые неумытые дети в рубашонках… Это было страшно, поверьте мне! И мне был о стыдно идти к этим людям и вымогать у них последние гроши.
Так что должен признаться: я мало агитировал этих крестьян. В основном сидел дома у агронома (или где там доводилось останавливаться) и помогал по хозяйству в меру своего умения и сил. А вечером пил с хозяином самогон.
Такое тесное общение с этими людьми породнило меня с ними — я их полюбил всей душой: и баб на колхозных фермах, и безруких, безногих инвалидов-фронтовиков. Мне стали близки их страдания, их трудности, я не только видел, я вместе с ними жил в этой безысходности — в этой в широком смысле грязи, в этих трудах, в этом пьянстве.
Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.
Я видел, как иногда вскипал угнетенный дух этих несчастных. Однажды при мне на партийном собрании расшумелся один такой обездоленный инвалид войны — да так, что ведущий собрание третий секретарь райкома со страха залез под стол, став посмешищем всего района. Конечно, мужику этого не простили и сурово расправились, дав срок за хулиганство…
Я рад, что познал эту провинциальную или, скорее, деревенскую жизнь без прикрас, во всех ее проявлениях. Я видел кабацкие драки, а не только читал про них у Есенина — даже участвовал несколько раз, хоть и не был никогда физически мощным и мне частенько доставалось. Но ведь не одни только мерзости были в этих провинциальных городках, таких жалких и некрасивых на первый взгляд столичного жителя!
Я помню, как складывались мои отношения с хозяевами квартир, где я жил и столовался, — с теплотой и заботой, неуклюже порой, они искренне старались сделать сносным существование непривычного к сельской жизни горожанина. Стоит пожить там, как начинаешь находить особую прелесть в более простых и человечных отношениях между людьми (такие отношения еще можно было встретить в Москве моего детства и ранней юности, а вот когда я вернулся туда после пятнадцати лет работы в Калининской области — их уже почти не осталось).
Своей активной агитационно-пропагандистской деятельностью я заслужил нежданно-негаданно высокую честь быть рекомендованным в партию.
Рекомендовало меня бюро райкома комсомола. Я довольно сильно напугался, так как никогда не был большим приверженцем КПСС. Но это ведь был период оттепели, в которую я всей душой поверил, как, впрочем, и многие в нашей стране. Я действительно был убежден тогда в возможности построения социализма, как потом стали говорить, «с человеческим лицом».
Такая доверчивость, на первый взгляд, вступает в противоречие с моей профессиональной деятельностью, которая требует от меня сомневаться во всем, проверять каждое утверждение, каждый довод обвинения. И я это делаю. Куда же девается моя доверчивость? И, наоборот, куда исчезают мой скептицизм и подозрительность при столкновении с явлениями жизни вне судебных уголовных или гражданских дел? И во что же я верю в таком случае?
Думаю, все дело в том, что я охотно верю в доброе начало, в чистоту помыслов, в честность людей, и мне трудно строить отношения с людьми, подозревая их во всех тяжких грехах. В суде я как раз и отстаиваю эту веру в людей и не доверяю попыткам опорочить их и приписать им дурные намерения и преступные деяния. Так моя доверчивость легко уживается с моим же критическим отношением ко всему тому, что эту веру в человека пытается разрушить.
Что же касается моей «политической доверчивости», то хочется надеяться, что она не от природной глупости, а от того, что я жил больше другими интересами, и мне проще было многое принимать на веру, не давая себе труда, не тратя интеллектуальных усилий на критическое осмысление всего не столь интересного и важного. Я любил свою работу, любил живопись, литературу, музыку; любил своих друзей и родных; любил женщин. Признаюсь: мне многие годы было интереснее пытаться понять психологию какой-нибудь красотки, чем усваивать смысл постановления ЦК.
Так что я, узнав об оказанной мне чести быть рекомендованным в ряды коммунистов, попытался было робко сказать, что недостоин, но сам думал, что ничего страшного, что все теперь будет по-другому и что я, вместе со всем народом и с нашей партией, буду изживать пороки и недостатки, исправлять ранее совершенные ошибки.
И я стал кандидатом в члены КПСС. Это было что-то вроде полугодичного испытательного срока, после успешного прохождения которого тебя либо принимали в партию, либо гнали прочь. Но так вышло, что мой кандидатский стаж растянулся на более длительный срок, чем обычно. Став кандидатом, я переехал в Торжок, потом в Калинин, и только там эта эпопея завершилась.
Когда-то давно я смотрел фильм Льва Протазанова «Закройщик из Торжка» со знаменитым тогда актером Игорем Ильинским, сегодня, к сожалению, почти исчезнувшим из памяти людской. Потому в Торжке мне было очень любопытно побывать.