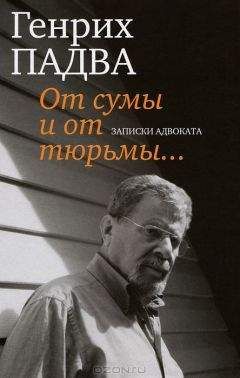После этих событий обстановка в прокуратуре несколько оздоровилась. Впрочем, и до этого торжокская прокуратура не состояла сплошь из негодяев и взяточников. С большим уважением, например, я вспоминаю Сергея Парамоновича Никанорова, много и успешно работавшего на посту прокурора района, — воистину светлая была личность!
Юридическая консультация в Торжке располагалась на чердаке того же здания, что и суд. Я был тогда совсем молоденьким, только после института, а выглядел еще моложе, просто мальчишка. Однажды я сидел на приеме граждан, и вдруг открывается дверь, входит судья, а с ним какая-то бабка. Судья показывает на меня и хохочет:
— Так вот это и есть адвокат!
Оказалось, несколько минут назад он послал старушку наверх, к адвокату, написать какую-то бумажку. А та заглянула, увидела меня и вернулась со словами:
— Там никаких адвокатов нет, сидит только какой-то мальчик.
Судья мне после этого сказал:
— Что ж ты у нас выглядишь так несолидно — бороду бы хоть отпустил, что ли!
А у меня как раз была такая мечта… Дело в том, что со мной в Минске учился некий Петя Дубов, Герой Советского Союза, и у него была благородная бородка, которая мне безумно нравилась. Говорили, он ее отпустил, чтобы скрыть шрам от ранения на подбородке — не знаю, правда это или нет. Но я в юности часто представлял себя с такой бородкой. А тут, раз уж судья сказал, я и решил попробовать…
«Выращивание» бороды стало серьезным испытанием. Это когда я брился, мне казалось, что у меня жуткие заросли, сквозь которые с трудом пробивалась бритва, доставляя мне неимоверные мучения… А когда начал отпускать бороду, выяснилось, что у меня едва ли не три волосины, и вместо приличной бороды я получил редкую, рыжеватую, неубедительную поросль. Цвет волос тоже доставлял мне переживания: при том, что я темный шатен, борода у меня была рыжеватая. Правда, потом кто-то из приятелей мне сказал, что разный цвет волос на лице и на голове — это признак породы, мол, вспомни Лермонтова[16]. И хотя поэт-то сравнивал породу людей с породой лошадей, меня это утешило.
В то время, в 50-е годы, мужчины редко носили бороды. Ко мне первое время даже незнакомые люди приставали из-за этой бороды. Еду, например, в автобусе, а мне:
— Да что ж ты делаешь, такой молоденький, хорошенький, а бороду отпустил, да сбрей ты ее!
Был у меня в ту пору длинный плащ, который, если застегнуть его наглухо, напоминал священническое облачение. И шляпа у меня была такая, необычная. И вот пару раз, когда я в этом плаще и шляпе входил в автобус, мне уступали место со словами:
— Садитесь, батюшка!
Это было смешно, но не очень приятно. И все же, несмотря на все такого рода «мучения», я с бородкой не расставался.
Много лет спустя, когда моя юношеская поросль стала нормальной, солидной бородой, произошла со мной еще одна смешная история. Я тогда приехал в Москву по делам, и мы с моими приятелями пошли в Сандуновские бани. Помывшись и воздав должное Бахусу, мы почему-то после бани пошли стричься и бриться. В кресле парикмахера я сидел, подремывая. И вдруг почувствовал, как он отхватил мне часть бороды. Тут я мигом протрезвел и накинулся на бедного цирюльника. Оказалось, один из моих приятелей решил надо мной подшутить и попросил сбрить мне бороду — мол, я сам так хотел. В итоге, конечно, пришлось сбривать ее целиком — и мне стало казаться, что я хожу голым. Я неожиданно для себя стал стесняться своего голого подбородка и даже время от времени машинально прикрывал его рукой. Странное ощущение неприличности своего «голого» лица! Нормально себя чувствовать я смог только после того, как борода отросла снова.
А ведь когда я ее отпускал, то говорил себе и всем окружающим так:
— Сейчас отпускаю бороду для солидности, а потом сбрею, чтобы помолодеть.
Недавно кто-то спросил:
— Ну что, не пора ли тебе молодеть?
Задумавшись, я понял, что это невозможно — я не могу расстаться с бородой, она стала частью меня.
Я уже упоминал, что в одном из монастырей Торжка находилась женская колония особого режима. Там сидели совершенно отъявленные преступницы, осужденные за самые страшные преступления — бандитизм, убийства. Многие имели по несколько судимостей. Быт в колонии был страшный. Там процветали лесбийская любовь, драки, женщины были неуправляемые, работать персоналу было очень тяжело. Все считали, что значительно тяжелее, чем с мужчинами. Мужчины как-то более дисциплинированны, чем пустившиеся вразнос женщины.
И вот две женщины, повздорив с третьей, организовали ее избиение, несколько раз подбросив в воздух и забыв поймать. Та разбилась, хотя осталась все-таки жива. А двух женщин судили за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.
И одну из них защищал я. Она была невероятная, неописуемая красавица! Высокая, статная, с удивительным для колонии цветом лица — свежим, как персик. Даже румянец пробивался сквозь мягкий пушок, чернобровая, черноглазая, глаза большие, яркие — просто картина Брюллова «Итальянский полдень».
Вела она себя на суде дерзко, даже нагло. Терять ей было, в общем-то, нечего. Судья задал ей вопрос, она, не шевельнувшись, что-то буркнула в ответ. А судья был робкий и застенчивый, это сразу бросалось в глаза. И он ей вежливо, тихим голосом объясняет: надо встать, когда разговариваете с судьей. Тогда она величественно поднимается, поворачивается к нему задом, нагибается и одним взмахом задирает юбку:
— А это ты видел?
Никакого белья под юбкой, разумеется, нет. Судья в ужасе, закрывшись крест накрест руками, кричит:
— Нет, нет, не надо, не надо!
Я был молод, самонадеян и переживал, что красавица ни разу не взглянула на меня с интересом. Как мужчина, я для нее просто не существовал. Весь процесс она не сводила глаз со своей напарницы — жалкой замухрышки, без пола, без возраста, со следами всех возможных пороков — она была и наркоманкой, и алкоголичкой. Обвисшие щеки, черепашья шея, рачьи какие-то, мутные глазки, низкий лобик, просто полоска над бровями, в палец шириной, прикрытый, вдобавок, жиденькой челочкой. И вот красавица жадно ловит взгляды этой страшной бабы. А та скуповато ее удостаивает вниманием.
В последнем слове обе каются, дают любые обещания, признают свою вину, им все равно, сколько они получат, — и у той, и у другой уже по 25 лет срока, так что им добавить могли только то, что они уже отсидели, и просят только об одном — чтобы их не разлучали, чтобы оставили вместе. Что, конечно, невозможно: по закону совершившие вместе преступление в колонии должны быть разделены.
И вот, после оглашения приговора, вдруг раздается истошный визг и две женщины бросаются друг на друга. За секунду сплетаются в клубок, превращаются в некое подобие спрута, невозможно разобрать, где чьи руки, где чьи ноги, откуда несутся вопли. Конвой растаскивал их долго, отлепляя буквально палец за пальцем. Эта сцена не стирается у меня из памяти.