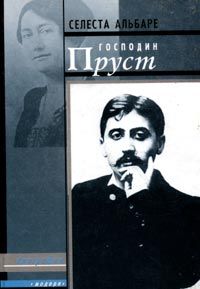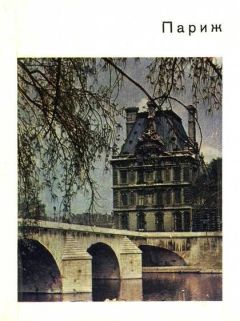ГЛАВА V. ВСТУПЛЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ: 1906-1912 гг.
Он выглядел как человек, переставший бывать на дневном свету и свежем воздухе, как отшельник, давно не покидавший дупло своего дуба, с какой-то тревогой на лице и будто выражением печали, которая начинает смягчаться. От него исходила некая горестная доброта.
Леон-Поль Фарг
СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
"Что ты сделал со мной? Что ты сделал со мной? Если бы мы захотели подумать об этом, то не найдется, быть может, по-настоящему любящей матери, которая не могла бы в свой последний день, а часто и гораздо раньше, обратить этот упрек к своему сыну. В сущности, мы стареем, мы убиваем все, что любим, своими заботами, самой беспокойной нежностью, которую внушаем и которой беспрестанно тревожим..." Читая эти строки, опубликованные Прустом в одной статье для "Фигаро" несколько месяцев спустя после смерти матери по поводу одного тонкого и доброго человека, внезапно сошедшего с ума и убившего свою мать, нельзя сомневаться, что он написал их, думая о собственной. Конечно, он не убил ее ножом, он ухаживал за ней с подлинным отчаянием, и если в некоторых записках, продиктованных досадой избалованного ребенка, порой обижал ее, то его капризы, всегда краткие, никогда не затрагивали обожание, которое он к ней питал. И все же он чувствовал себя ответственным за "ту медленную разрушительную работу, которую производила в родном теле болезненная и разочарованная нежность". Мадемуазель Вентёй и ее подруга, надругавшиеся над портретом старого музыканта, станут в его книге "символом его измученной угрызениями совести", [110] быть может, из-за постыдных удовольствий, найденных в самом надругательстве.
Ему известно теперь, что он уже никогда не познает в реальной вселенной этот мир, основанный "на доброте, совестливости и жертвенности", существование которого он отказывался отрицать, пока жила та, в ком этот идеал, казалось, был воплощен. Какое счастье остается ему искать? Светские успехи? Он снискал их все, и измерил их суетность. Плотская любовь? Он примкнул к "пагубной ереси", не позволяющей ему вкушать ее радости со спокойным сердцем. Упование на Бога? Он хотел бы верить, и не верит. Единственное, что ему остается, это бегство в ирреальное. Марсель Пруст приобщится к литературе, как иные к религии. Его уход осуществится поэтапно, потому что ради своего труда ему понадобится долго поддерживать дипломатические отношения с окружающим миром. До самого конца призрак в ватном нагруднике, "мертвенно-бледный, с отливающим синевой лицом из-за очень черной щетины",[111] продолжает посещать после полуночи несколько парижских домов, несколько гостиничных холлов. Подлинный Марсель Пруст отныне будет жить в прошлом".
"Ковчег затворился, и на землю пала ночь... Мир, который Ной созерцал в ночи потопа, был миром исключительно внутренним..." [112] Между 1905 и 1911 годами, в день, который точно неизвестен, Марсель Пруст начал придавать форму своему роману.
"Мы знали, - говорит Люсьен Доде, - что он пишет какое-то произведение, о котором упоминал вскользь и будто извиняясь". По его письмам, то тут, то там, можно догадаться об идущей работе. Разрозненные отрывки из книги появляются в виде очерков в "Фигаро": "Боярышник белый, боярышник розовый"; "Лучи солнца на балконе"; "Деревенская церковь". В 1909 году Марсель читает Рейнальдо Ану первые двести страниц и остается удовлетворен теплотой приема. В том же году он советуется с Жоржем де Лори о названии "Германты" и о разбивке произведения на тома. Скрываясь за плотным занавесом болезни и тайны, Пруст молчаливо устанавливает декорации и заставляет своих персонажей репетировать. До 1905 года он не нашел в себе силы принести настоящее в жертву воспоминаниям. Сюжет романа тоже его ужасал: "Достоин жалости и не ведом никаким Вергилием поэт, идущий сквозь смоляные и серные круги Ада, чтобы, бросившись в низвергнутый с неба огонь, вывести оттуда какого-нибудь обитателя Содома..." Смерть родителей, созревание его мыслей, а также, без сомнения, некое внезапное озарение - все это привело к тому, что он взялся, наконец, за работу. Он чувствовал себя очень больным. Проживет ли он достаточно долго, чтобы осуществить свой труд? Он знал, что его мозг был "богатым рудным бассейном, где имелись несметные и весьма различные ценные залежи..." Но хватит ли ему времени разработать их?
Книга, которую ему предстоит написать, будет большой. "Ему понадобилось бы много ночей, быть может, сто, быть может, тысяча..." Эта книга будет такой же большой, как "Тысяча и одна ночь" но совершенно другая. Чтобы написать ее, ему потребуется бесконечное упорство и мужество. "Я жил в лености и беспутстве удовольствий, в болезни, лечении, причудах; я затеял свой труд накануне смерти, ничего не смысля в своем ремесле..." Он сказал где-то, что от легковесности его спасла лень, а от лени болезнь. Это точно. Без своего первоначального рассеяния он бы начал писать слишком рано и произведения слишком скороспелые, слишком легковесные, а без недугов, которые становились все тяжелей, вынуждая его оставаться дома и всех приучить к своему столь странному образу жизни, он не смог бы сохранить за собой долгое одиночество, без которого не способно родиться ни одно значительное произведение.
Он прожил еще пятнадцать месяцев на улице Курсель, в квартире, где умерли его родители, "чтобы исчерпать срок арендного договора", затем, в конце 1906 года переехал на бульвар Осман, 102, в дом, принадлежавший вдове его дяди Жоржа Вейля, магистрата. Марсель Пруст госпоже Катюс: "Я не мог сразу же решиться на переезд в какой-нибудь дом, в котором Мама никогда не бывала, и на этот год поднанял квартиру своего дяди в доме № 102 по бульвару Осман, куда мы с Мамой порой приходили ужинать и где я видел, как умер мой дядя, в комнате, которая будет теперь моей, но которая и без этих воспоминаний со своими золочеными украшениями на стенах телесного цвета, с пылью квартала, беспрестанным шумом и вплоть до деревьев, упирающихся в окно, очевидно, весьма мало отвечает тому, что я искал!.."
Марсель захотел, чтобы и в этой новой комнате его кровать и ночной столик, который он называл "шлюпкой" -место для книг, бумаг, перьевой ручки и ингаляционного набора, были расположены так же, как на бульваре Мальзерб и улице Курсель, "чтобы по диагонали видеть входящих посетителей, а слева иметь дневной свет - в тех случаях, когда его впускали, и слева же - тепло от камина, огонь которого был обречен вечно оставаться либо слишком жарким, либо слишком слабым..." [113] Книги, наваленные на "шлюпке", почти все были позаимствованы у друзей. Во время переезда семейная библиотека оказалась погребенной под мебелью, люстрами, коврами, слишком многочисленными для квартиры меньшего размера, так что Марсель не мог добраться ни до одной из своих собственных книг. Ему случалось давать взаймы Жоржу де Лори только что купленных им Сент-Бёва или Мериме со словами: "Оставьте себе. Если мне понадобится, я его у вас попрошу. У меня он все равно потеряется..."