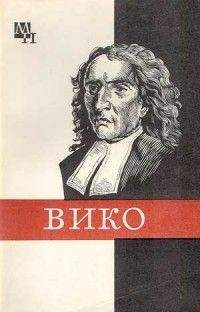Освободительная миссия литературы
С самого начала очерка Сартр пытается провести строгую демаркационную линию между поэзией и прозой. Под литературой в собственном смысле слова он понимает только прозу, и потому отмеченное различие играет основополагающую роль во всей его теории. С него начнем и мы. Вот собственная формулировка философа: «Поэт помещает себя за пределами инструментального языка; он избрал раз и навсегда поэтическую установку, которая рассматривает слова как вещи, а не как знаки. Человек (практической жизни. — М. К.), который говорит, находится по ту сторону слов, около объекта (к которому относятся слова. — М. К.); поэт остается по сю сторону слов. Для первого слова одомашнены, для второго они остаются дикими. Для первого они представляют собой удобные конвенции, орудия, которые постепенно изнашиваются и выбрасываются, когда перестают служить; для второго они — явления природы, естественно произрастающие на земле, подобно траве или деревьям». «…Поэт — тот, кто отказывается пользоваться языком»[46].
Таким образом, поэтическая речь противопоставлена обыденной, а вместе с этим и общение (коммуникативная функция языка) противопоставлено выражению. Поэт занят самовыражением, а обычный человек стремится к взаимопониманию посредством знаковых выражений, имеющих одинаковый смысл для участников разговора. Сартр, конечно, учитывает, что проводимое им различие имеет в значительной мере идеальный характер, ибо в действительной жизни поэтическая речь содержит в себе элементы коммуникативной и наоборот — обыденный язык в своем звучании сохраняет поэтические обертоны. Но даже при такой оговорке, которая делает позицию Сартра более сильной, предложенная им демаркация вызывает серьезные возражения.
Во-первых, вряд ли можно согласиться с тем, что обыденный язык целиком сводится к знаковой деятельности обозначения объектов, это весьма сложное, полифункциональное образование. Если бы Сартр принял во внимание опыт неопозитивизма, представители которого как раз и пытались сконструировать идеальный знаковый язык на основе коренного преобразования обыденной речи, он понял бы, что его оценка обыденного языка слишком груба и приблизительна, чтобы быть правильной. К тому же он вообще не склонен, по-видимому, различать коммуникативную и значимо-обозначающую функции языка На языке семиотики это означает, что он не различает прагматический (коммуникативный), семантический (выражающий значение) и сигматический (обозначающий объект) аспекты языка[47]. Он не учитывает того, что каждая из этих функций самостоятельна и что, скажем, выражать значение — вовсе не то же самое, что обозначать объект, ибо значение не обязательно должно быть объектом. Таким образом, в оценке и характеристике обыденного языка аргументация нашего философа весьма неубедительна.
Во-вторых, и при описании поэтической речи Сартр защищает довольно узкую и одностороннюю позицию. Он, как всегда, стремится быть современным и даже наисовременнейшим. Поэтому он ориентируется в основном на некоторые новейшие направления поэтического творчества, в частности на экспрессионизм и сюрреализм. Именно для этих направлений типично рассмотрение слова как живого организма и поэтического мира как подлинной реальности, скрываемой конвенциями обыденной речи (об этом мы уже говорили немного в первой главе).
На опыте сюрреализма основан и пессимистический вывод Сартра относительно того, что поэт неминуемо «обрекает себя на неудачу»[48]. Действительно, сюрреалисты, силясь вобрать в свои произведения жизнь во всей ее полноте, поставленной перед собой цели не достигли, а поэтическую форму начисто разрушили. Но сама поэзия неповинна в преувеличениях кучки литераторов, которым просто не хватало поэтического дарования, вот они и старались компенсировать сей недостаток «смелым» теоретизированием и постановкой потрясающе масштабных задач. Границы сюрреализма не есть границы поэзии, которая всегда шла и продолжает идти путем, не предусмотренным в «творческой лаборатории» А. Бретона и его последователей.
Вообще в этом очерке Сартра, где он принужден был как-никак аргументировать, а не давать вместо доводов феноменологические описания и интерпретировать их, едва ли не в наибольшей степени сказались общие пороки его стиля мышления: фрагментарность, теоретизирование ad hoc (на случай), неправомерное обобщение частных примеров, скачки в рассуждениях, вызванные, так сказать, сопротивлением материала, который никак не удается подвести под заранее выработанное понятие. И наконец, то, что мы бы назвали методом энергичного повторения патетических деклараций вместо их обоснования. Декларация, даже многократно повторенная, не заменит аргументации. Это художник, как известно со времен Белинского, показывает, а теоретик обязан доказывать, обращаясь не к чувству, а к ясному критическому разумению читателя.
Поэтому часто при чтении Сартра возникает довольно сложное и даже парадоксальное чувство: иногда соглашаешься с его мнениями по отдельным вопросам и с конечными выводами, но не можешь принять его рассуждений и доводов, которые порой даже вызывают досаду своей легковесностью и непродуманностью. Иногда же бывает иначе: привлекает какое-то одно звено в цепи рассуждений, совершенно экстравагантных и неприемлемых. Сильнее всего и интереснее Сартр в описаниях конкретных ситуаций человеческой жизни и истолковании их смысла, особенно если это истолкование не превращается в глобальные постулаты, что, к сожалению, бывает довольно часто в его практике.
Так вот и в очерке «Что такое литература?» у Сартра попадается довольно много верных и прогрессивных по своему общественному звучанию мыслей, хотя и кое-как обоснованных или вообще ничем не подтвержденных. Что, однако, делает этот очерк этапом интеллектуальной биографии Сартра, так это первый проблеск социологического анализа явлений литературы, с чем ранее нам еще не приходилось встречаться в его творчестве. Но посмотрим, каким путем наш автор приходит к социологическому взгляду на явления духовной культуры.
Обоснование автономии прозы по отношению к поэзии служит в контексте очерка вполне определенной цели: признанию ответственности литератора-прозаика (в отличие от поэта) перед самим собою и перед своим читателем. Поэт не думает о читателе, он творит из себя и для себя. Литератор же с самого начала творческого процесса имеет в виду воздействие на читателя, ибо он абсолютно нуждается в нем для того, чтобы его творение стало произведением искусства. «Акт творчества есть только неполный и абстрактный момент труда; если бы автор существовал один на белом свете, то сколько бы он ни писал, его работа никогда не возникла бы как объект и он вынужден был бы прекратить писать или отчаяться. Но акт писания предполагает акт чтения как его диалектический коррелят, и эти два связанных акта требуют двух различных субъектов… Искусство существует только для и посредством других людей»[49]. Мысль глубоко верная, диалектическая по своей природе, но очень не новая. И главное, она внутренне не связана с общефилософской позицией экзистенциализма, а Сартр, заимствовав ее из других источников, пытается поставить ее на службу своим целям. С течением времени он все чаще и чаще стал прибегать к такому приему, что безусловно усиливало и без того заметный эклектизм его мировоззрения.