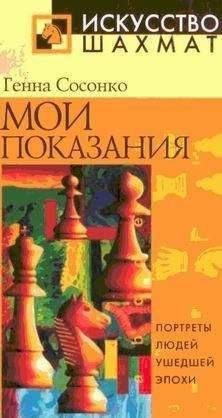Несколько раз в наших разговорах всплывало имя Солженицына, жившего тогда в Америке. Было очевидно, что одна из приводимых им формулировок отчаявшихся людей, получивших 10-15 лет лагеря: если сейчас не жить, а только потом, то зачем вообще? — ей совершенно чужда. Жить! Чего бы это ни стоило. Простой стих Мецената: «Dum vita superest, bene est»[ 3 ] — выгравирован на гербе женщин этого ордена.
Ольга Книппер-Чехова, игравшая в пьесах своего знаменитого мужа еще в начале века и умершая народной артисткой СССР и лауреатом Сталинской премии в 91 год. Марлен Дитрих, умершая в Париже в том же возрасте. Лиля Брик - муза Маяковского, другая Чехова — тоже Ольга, о которой вспоминала Ольга Кларк, — известная киноактриса Третьего рейха, блиставшая на приемах рядом с Гитлером и Герингом и находившаяся в тайной связи с Советами. Лени Рифеншталь, на исходе десятого десятка готовящаяся встретить новый век. Загадочная Гала Дьяконова, тоже достигшая преклонного возраста, без которой вряд ли Сальвадор Дали стал бы тем, кем он стал. Алма Малер с ее насыщенной бурной жизнью, в которой встречаются имена одно ярче другого.
Впрочем, и Ольгино созвездие удалось. Первый муж ее - офицер белой армии, кавалерист, впоследствии летчик, что в конце 20-х годов звучало гораздо более экзотично, чем в наши дни; по словам Ольги, потомок Чингис-хана и сам князь, он оставил ей княжеский титул. Второй муж — шахматный король, третий — обладатель золотой олимпийской медали, фактически тоже чемпион мира, четвертый — герой войны, адмирал, герой Америки. Но Ольга не довольствовалась этим, она писала свою биографию широкими мазками, начиная с прадедушки Евдокимова - знаменитого покорителя Кавказа, о чем она говорила при каждом удобном случае. Факт этот проверить -было так же сложно, как и родство ее первого мужа с Чингис-ханом; мне казалось, что фамилия покорителя Кавказа была не Евдокимов, а Ермолов, но сказать ей об этом я как-то не решался.
Русская княгиня — это вписывалось в любое сочетание: с олимпийским чемпионом, с адмиралом, но наибольший эффект это производило в комбинации с шахматным королем. Шахматный король и русская княгиня - звучало замечательно на дипломатических приемах и на балах, которые Ольга называла партиями. На приемах этих тогда можно было встретить кого угодно: бывших и настоящих королей, дипломатов (профессиональных и синекурных, каким являлся Капабланка), обладателей огромных состояний, непонятно каким образом нажитых, магараджу или чудом спасшуюся от расстрела якобы царскую дочь. Вся жизнь Ольги напоминала одну длинную партию с шампанским и цветами, и ей, конечно, так же как, впрочем, и ему, было все равно, каких политических взглядов придерживаются Крыленко, Риббентроп или магараджа, приглашения от которого она позже находила в бумагах своего покойного мужа.
Ольга появилась в платье с огромным декольте на торжестве в Манхэттенском клубе, посвященном 100-летию со дня рождения Капабланки; ей самой уже было девяносто. Она не изменила своей привычке и опоздала на полчаса, но тот единственный, кто мог попенять ей за это, смотрел, улыбаясь, с огромной фотографии на стене клуба.
Иногда она пускалась в рассуждения о шахматах, мыслях молодого Капабланки во время его первой поездки в Европу, о Сан-Себас-тьянском турнире, заставляя меня невольно вспомнить строки Гоголя из письма к любящей его матери: «Не судите никогда, моя добрая и умная маменька, о литературе». Сама Ольга не играла в шахматы. Но что с того. В конце концов, жена Расина никогда не читала произведений своего мужа, так же как и жена Гейне, которая знала по-немецки только одну фразу «Guten Tag, Herr, nehmen Sie, bitte, Platz», утверждая: «Говорят, Генрих - умный человек и написал много чудесных книг, и я должна верить этому на слово, хотя сама ничего не замечаю». Моего, признаться, нелепого вопроса, играли ли Капабланка и Тартаковер с часами, она просто не поняла, хотя через некоторое время говорила уже об оценке трудной отложенной позиции Капабланки с Боголюбовым из Ноттингемского турнира, напомнив полный изящного достоинства ответ жены другого чемпиона мира — Смыслова: «Я в шахматы не играю, но позицию понимаю». Я спрашивал ее о многом другом, помня, что тот, кто много спрашивает, получает много ответов. Но почти все ответы ее были похожи, как отшлифованные морские камушки, на уже слышанные, и разница заключалась лишь в том, что в ресторане она заказывала «Распутина», а я - «Пушкина». Было очевидно, что я не первый, кто спрашивал ее о Капабланке. Она создавала его образ, и я встречал потом кое-что из рассказанного мне, едва ли не слово в слово, где-то еще. Впрочем, и известное — известно немногим, а Ольга знала, чего от нее ждут. С другой стороны, образ его создавать было нетрудно, оттого, что он во многом и был такой. Они были вместе восемь лет, но понимала ли она его так хорошо? Восемь? «Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек», — писала вдова Толстого после смерти мужа.
Хотя Ольга говорила о событиях более чем полувековой давности, я понимал, что даже из ретушированного прошлого непредвзятый слушатель всегда может выудить черты и черточки, наверное, самого легендарного чемпиона за всю историю игры. Конечно, мне хотелось знать, какие шахматные книги были дома, как он анализировал, как готовился к партии, если готовился вообще. Ольга отвечала, что шахматы он не любил, что мне представляется неверным, что к партиям не готовился вовсе и что, по словам самого Капабланки, если бы шахматы не захватили его так в юности, он, вероятно, стал бы изучать медицину. Знакомый с тем, что он делал на шахматной доске, я снова мягко уводил ее от рассказов об играх, как она называла партии, ибо слово «партия» для нее означало нечто другое: вечерние туалеты, танцы, шампанское. Я старался направить ее в русло чеховской молитвы: «Боже, не позволяй мне говорить о том, чего я не знаю», но даже когда Ольга снова начинала вспоминать вечный карнавал на Кубе или веселую беззаботную жизнь в Нью-Йорке в начале 30-х, в глубине души возникало смутное «смотря для кого» — явное следствие лекций по диалектическому материализму моей далекой юности.
Но не могу сказать, что мне было скучно с ней. Она оживлялась после своего любимого шампанского и могла с воодушевлением рассказывать, какого цвета платье было на госпоже Эйве, о чем шел разговор с госпожой Флор в Ноттингеме, когда она встретила ее утром в парикмахерской в день закрытия турнира, или какие именно комплименты говорил ей министр иностранных дел Германии в кубинском посольстве в Париже. Здесь уж можно было поручиться, что память ее не подводит; она была молода и очень женственна в эти мгновения, улыбка играла на ее лице, и можно было представить, как потерял голову летом 1920 года в Константинополе бывший офицер-текинец, а четырнадцать лет спустя — немолодой уже и видавший виды шахматный король. Но реальность жизни не должна была быть забыта, и вот через минуту она уже спрашивала, сколько могла бы стоить золотая медаль, полученная Капой на Олимпиаде в Буэнос-Айресе: Ольга любила окунаться в воспоминания, но не витать в облаках. Она твердо стояла ногами на земле — обязательное условие столь долгого пребывания на ней. И пусть воспоминания эти были не так глубоки, она говорила обо всем с таким удовольствием, что невольно закрадывалась мысль: может, так и надо жить?