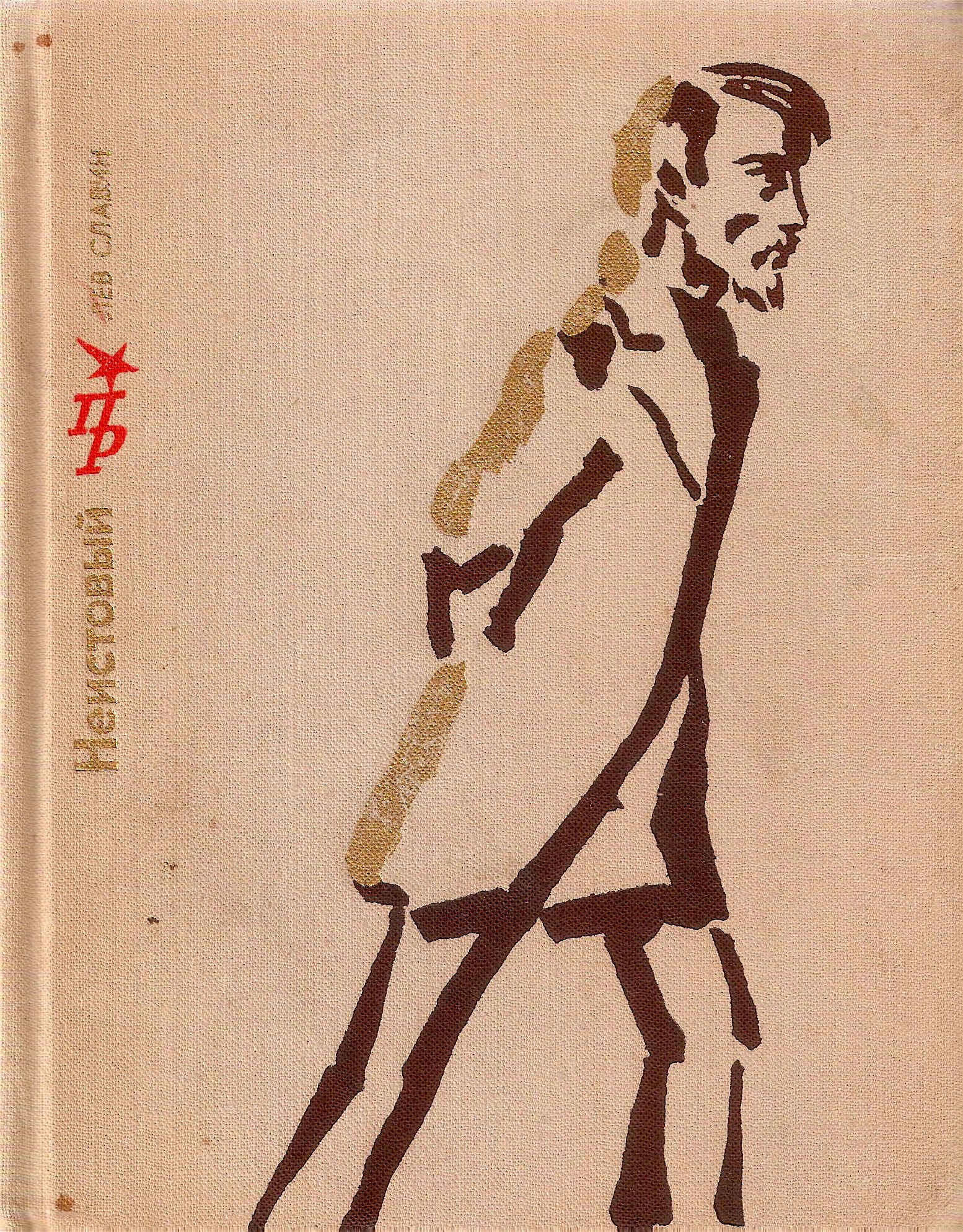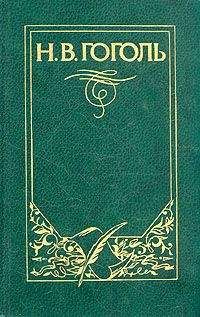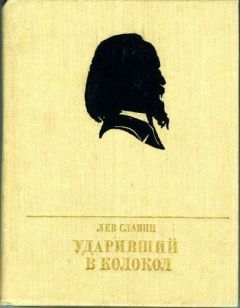из-за всего, что произошло с «Телескопом». Я прочту вам из него...
Из того же сафьянового бумажника Петр Яковлевич вынул лист и, уже не показывая его Белинскому, прочел:
«...я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя: как литератор — je suis aigri»,— то есть «меня .раздражают, как человек с prejuges»... ну, словом, «с предвзятостями» или, вернее сказать, «с предрассудками, je suis froisse», то есть, я... я...
— Оскорблен,— подсказал Белинский.
— Оскорблен. Благодарю вас... «Но,— пишет он далее,— клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество...»
Чаадаев замолчал и бережно упрятал письмо в бумажник.
— А разве так стоял вопрос?
Петр Яковлевич строго взглянул на Белинского. В немигающем взгляде его не было гнева, ни даже раздражения. Было упорство, сила убеждения, доходящая до одержимости. Он сказал, не повышая голоса:
— Я ведь мог остаться за границей. Но я вернулся. Да еще в тяжкую годину расправы над моими друзьями. Я люблю Россию. Но мой патриотизм другого рода.
Он спрятал бумажник в ящик стола, повернул ключ и положил его в карман. Все движения его, даже самые мелкие, были размеренны и удивительно отчетливы. Вдруг в мраморном лице его что-то смягчилось, появилась нежность, жалость, он сказал:
— Живи я в Петербурге в то время, Пушкин никогда не дрался бы с Дантесом.
Белинский чуть не вскрикнул,— так поразили его эти простые слова. Пушкин мог быть жив! Виссарион поверил ему. Да и кто бы не поверил, глядя на Чаадаева. Его душевная сила, его ум, страстный и бесстрашный, волшебство его красноречия, наконец самая дружба с Пушкиным, которой тот гордился...
Ведь скорбь о Пушкине не утихла, и мы плачем о нем до сих пор. Пушкин мог быть жив! Насколько богаче была бы духовная жизнь России, были бы спасены Гоголь и Лермонтов, и, может быть,— подумал Белинский,— сложилась бы иначе самая судьба русского образованного общества, такая драматическая...
Виссарион хотел еще сказать, что он согласен с Пушкиным, когда тот не разделяет взглядов Чаадаева на характер русского народа, так же как и симпатии Петра Яковлевича к католицизму, но что вместе с Пушкиным он горячо поддерживает Чаадаева в его возмущении безобразным режимом николаевской империи. И что вообще есть правота ума, но есть и правота сердца,— мысль, не чуждая и самому Чаадаеву.
Но не сказал — опять накатился на него припадок застенчивости. Голос его прервался, на шее какая-то мышца противно билась. Он даже боялся долго смотреть на Петра Яковлевича, только взглядывал урывками и зажмурившись, как на солнце. Собственные мысли казались ему куцыми, обесцвеченными. На какое-то время он даже перестал слышать Чаадаева.
Но сделал над собой усилие, вслушался:
— О себе не говорю. С меня ведь взята подписка ничего не публиковать. Но ведь Уваров вообще запретил всей российской печати заниматься крепостным правом.
— Знаю,— сказал Белинский, прорвавшись наконец сквозь свою немоту.— Уваров сказал Михаилу Петровичу Погодину, что нарушение крепостного права вызовет неудовольствие дворянского сословия.
«Кто поручится,— сказал Уваров,— что тотчас не возникнет какой-то тамбовский Мирабо или костромской Лафайет».
Можно было поручиться, что Чаадаев не слушает. Он помолчал просто из вежливости. Ему не нужен был собеседник. Только — слушатель. Он был монологист. Убедившись, что Виссарион не продолжает, Петр Яковлевич повел речь как бы с того слова, на котором его прервали:
— А ведь все зло от крепостного права. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли рабы, разве это не почва, которая вас питает? Насилие и ложь пропитали всю нашу жизнь. Взгляните на свободного человека в России, и вы не усмотрите никакой заметной разницы между ним и рабом. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И потому было бы полезно не только в интересах других народов, а и в ее собственных интересах заставить ее перейти на новые пути.
Поколебавшись, Виссарион решился возразить:
— Однажды я попробовал изобразить свободного духом человека...
— Где?
Виссарион уже пожалел о сделанном признании, но сказанного не возвратишь.
— В своей трагедии,— сказал он неохотно.
Чаадаев поднял брови:
— Я не знаю вашей трагедии.
— Никто не знает ее.
— Задушена цензурой в колыбели? Дайте почитать.
Белинский покачал головой:
— Это произведение девятнадцатилетнего юноши. Много благих порывов, но художественно немощно.
— Тогда расскажите..,
Виссарион потупился, руки зажал между колен.
— Не знаю, право... Многое из собственной судьбы вложил я в образ Дмитрия Калинина. Его именем я и назвал пьесу. Это образованный крепостной. Я вам вкратце... Он сирота. И помещик Лесинский воспитал его вместе со своими детьми. Дмитрий влюбился в дочь помещика Софью. Ну, и она в него...
Виссарион остановился. Он чувствовал, что рассказом своим огрубляет пьесу, лишает ее остроты, волнения. Голос его делался деревянным, слова костенели, не вязались друг с другом. Но уже невозможно было остановиться под внимательным взглядом Чаадаева, и он продолжал с отчаянием утопающего:
— Вдруг помещик умер, а сыновья порвали вольную Дмитрия и сделали его дворовым, прислуживающим за столом. Я это не выдумал. Я брал из жизни. Это была в наших краях такая семья Мосоловых. Я их взял за модель. Самодуры! Буйные какие-то! Развратники! Истязатели! Их мать, например, говорит о себе... То есть это в моей пьесе: «Во всю обедню, грешница, продумала про житейское. То надобно послать в город купить что-нибудь; то нужно достать хорошую плетку для девок; то надо отпороть кого-нибудь из лакеев; то — как бы поскорее чайку напиться»...
— Это совсем недурно,— сказал Чаадаев.
Несколько ободрившись, Виссарион продолжал:
— И вот такие-то люди сделали Дмитрия челядью, лакеем. Я приведу несколько слов из его монолога. Знаю, это ходульно, выспренно, но это его душевное состояние.
Виссарион выпрямился, слегка приподнялся даже и воскликнул:
— Я буду прислуживать при столе... и