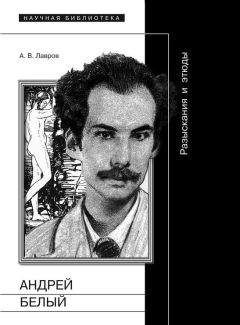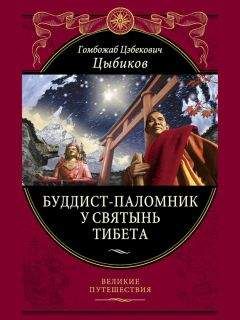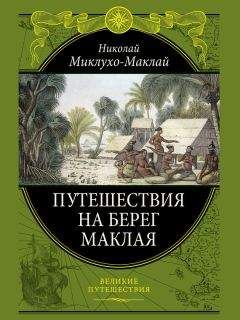Дарьяльский и Сергей Соловьев
О биографическом подтексте в «Серебряном голубе» Андрея Белого
В творческой эволюции Андрея Белого «Серебряный голубь» — первый опыт обращения к большой «традиционной» повествовательной форме, к разработке сюжетной интриги и характеров, лишь опосредованно связанных с авторским субъективным началом. Такой выход к «эпосу» не предполагал, однако, изменения писательского метода и психологических основ творчества Белого, коренившихся в последовательном автобиографизме. Рельефно обрисованный крестьянский и уездный бытовой уклад, колоритные картины жизни и умонастроений «простонародья» были во многом списаны с натуры; сам Белый впоследствии подмечал, что ряд обстоятельств его жизни и, казалось бы, «посторонние» впечатления обернулись для него безотчетным сбором материала для «Серебряного голубя» в пору, когда замысел этого произведения еще и не зародился в его сознании: «В 1905–1906 годах я застаю себя за рядом действий, мне ставших ясными поздней, как-то: особые разговоры с крестьянами Московской и Тульской губерний, темы этих разговоров (политические, моральные, религиозные), особая зоркость к словам, жестам, любопытство, не имеющее видимых целей <…>»[203]. Такую же ретроспекцию по отношению к жизненной реальности представляет собой и основная сюжетная линия романа, создававшегося в 1909 г.[204], но отразившего психологические коллизии и эмоциональные состояния, переживавшиеся острее всего в том же 1906 г.
О том, что прообразом Дарьяльского, главного героя «Серебряного голубя», был ближайший друг Белого с юношеских лет, поэт-символист Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942), что биографические аллюзии скрыты и в других персонажах романа, исследователями сообщалось неоднократно[205]; эти указания восходят к мемуарным признаниям самого Белого и свидетельствам ряда его современников. Однако далее констатации непреложного факта обычно дело не шло. Между тем осмысление романа Андрея Белого под знаком отражения в его образно-сюжетной фактуре подлинных лиц и подлинных жизненных обстоятельств вполне может быть предметом конкретного и досконального «расследования»[206].
Сам Белый весьма упростил задачу подобного расследования собственными «расшифровками» реальных прообразов своих героев. Наиболее подробную «расшифровку» находим в «берлинской» редакции воспоминаний «Начало века» (1922–1923). «…Все типы „Голубя“, — сообщает Белый в этой книге, — складывалися из разных штрихов очень многих людей, мною виданных в жизни, — в несуществующих сочетаниях; фабула — чистая выдумка; если бы я рассказал, кто служил бессознательно моделью, то мне — удивились бы: ряд штрихов у Дарьяльского списан с С. М. Соловьева — эпохи 906 года: идеология — помесь идеологии Соловьева (периода 906 года) с моею теорией ценности; странно: столяр Кудеяров есть помесь: своеобразное преломление черточек одного надовражинского столяра с М. А. Эртелем и… с Д. С. Мережковским; одна половина лица говорит „я вот ух как“, другая — „что? съел?“: это — Эртель; и „долгоносик“, порой становящийся транспарантом, через которого „прет“ (лейт-мотив одержания), есть Мережковский с его бессознательным революционно-сектантским (метафизическим только) хлыстовством; идейную помесь из „Эргтеля-Мережковского“ я расписал бытовыми штрихами действительного столяра; странно: в Аннушке-Голубятне вполне бессознательно отразился один только штрих, но действительный, Н. А. Тургеневой (лейтмотив бледно-гибельной, грустной сестрицы); и это открыл мне Сережа; Матрена — сложнейшая помесь из нескольких лиц: баба Тульской губернии (большеживотная и рябая, с глазами косящими), Любовь Дмитриевна (глаза — Океан-море-синее, грусть, молитвы, обостренное любопытство, дерзание), Поля (прислуга Эмилия Карлыча Метнера — из-под Подсолнечной: странно — из Боблова, то есть деревни имения Менделеевых); Поля нужна была мне, как модель; и порой отправлялся я летом из Дедова к Метнерам, чтоб рисовать — от натуры (то лейт-мотив — солнечности); сам сначала не понял, что Поля — модель, пока Метнер, которому читывал я ряд набросков, смеясь, мне сказал:
— „Да ведь это же — Поля“…
Потом уж сознательно ездил я: делать эскизы с натуры; „сенатор“ в существенном тоне фигуры есть В. И. Танеев (идеология, странности, голос, манера держаться); конечно же, внешностью Катя есть Ася; психическое содержание — не Асино.
До конца мною измышленная фигура (за исключением „бабушки“, места пустого) — купец Еропегин; и местности „Голубя“ частию — списаны; Лихов — Ефремово; окрестности Лихова есть окрестность Ефремова; говор крестьян — говор Тульской губернии; но Целебеево видом во многом — село Надовражино»[207].
«Реальный» подтекст в «Серебряном голубе», как можно заключить из этого авторского толкования, выстраивается по принципу контаминации автобиографических ассоциаций. В топографическом пространстве действия совмещаются уездный город Ефремов Тульской губернии, близ которого находилось имение Бугаевых Серебряный Колодезь (Белый постоянно проводил там летние месяцы с 1899 по 1908 г.), и подмосковное село Надовражино, примыкавшее к Дедову, имению бабушки С. М. Соловьева А. Г. Коваленской (Белый и Сергей Соловьев часто бывали в этом селе летом 1906 г.); к авторским признаниям можно было бы добавить, что имение Гуголево, в котором живет невеста Дарьяльского Катя, проецируется на Дедово (где Белый из года в год подолгу гостил в летнюю пору). Тот же принцип контаминации соблюден и в отношении персонажей «Серебряного голубя». Некоторые «составляющие» художественных образов без соответствующих указаний самого Белого определить не было бы возможности («баба Тульской губернии», чьи внешние черты отражены в Матрене, или прислуга Э. К. Метнера, или надовражинский столяр), некоторые с трудом поддаются анализу из-за сугубой субъективности авторских ассоциаций (черты Наташи Тургеневой, старшей сестры Аси, в Аннушке-Голубятне), либо из-за недостаточной отчетливости образа прототипа и скудости достоверных знаний о нем: так, гадательным было бы толкование «эртелевского» аспекта в личности Кудеярова — прежде всего по той причине, что о несостоявшемся ученом-историке и теософе М. А. Эртеле, входившем в 1900-е гг. в ближайший к Белому круг московских «аргонавтов», сведений сохранилось немного и восходят они почти исключительно к самому Белому (памфлет «Великий лгун» и портрет-шарж в позднейших мемуарах «Начало века»)[208].