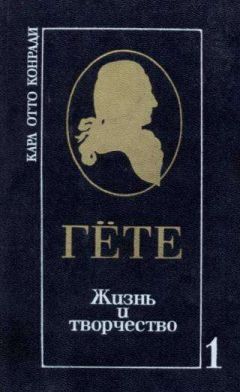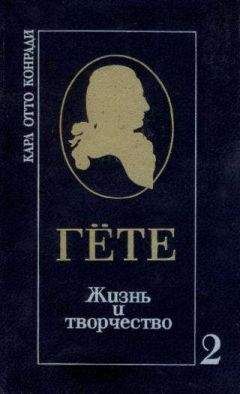Мать Гёте завязала отношения с кружком благочестивых людей, которые в своих верованиях были близки к общине гернгутеров.[33] Сузанна фон Клеттенберг, «чьи беседы и письма и послужили основой для «Исповеди прекрасной души», включенной в «Вильгельма Мейстера» (3, 286), пользовалась в этом кружке особым уважением и в то же время была связана с домом Гёте узами родства. Поиски спасения в личном благочестии, в отречении от собственной греховности и в открытости души навстречу богу, дабы отдаться ему целиком, — вот что двигало этим кружком. Лишь в сосредоточенной тишине и покаянии, считалось в этом кружке, можно найти путь к богу. «Радостное спокойствие духа никогда не покидало ее (Клеттенберг. — С. Г.). Свою болезнь она рассматривала как необходимую составную часть бренного земного существования, с величайшим терпением переносила свои страдания, а в часы, когда они отпускали ее, была оживленна и разговорчива. Занятие, которому она предпочтительно, если не исключительно, предавалась, было приобретение нравственного опыта, который дается только человеку, способному наблюдать над собою; в не меньшей степени занимали ее и религиозные предметы, каковые она метко и остроумно подразделяла на естественные и сверхъестественные… Во мне она нашла то, что ей было нужно, — юношу с живым умом, в свою очередь стремившегося к неведомому благу, который, хотя и не зная за собою особых прегрешений, отнюдь не чувствовал себя счастливым и не был здоров ни душою, ни телом» (3, 286–287).
Несколько опережая события, Гёте отмечал 30 января 1769 года, что вот уже полгода, как он дома, «и полгода болен», но и «в эти полгода я многому научился» (к Кетхен Шёнкопф). Однако совсем не легко точно перечислить, чему именно он научился в эти месяцы. Документов сохранилось очень мало, они в основном сводятся к отдельным намекам. То, о чем сообщается в восьмой книге «Поэзии и правды», требует также объяснений отдельных мест и интерпретации всего в целом, как и соответствующие места в письмах; затем следует обратить внимание на замечания, которые лишь позднее были включены в «Эфемериды» — дневник с конспектами прочитанного, указаниями на книги и с собственными замечаниями, который был начат с 1770 года.
Письмо, которое Гёте написал 17 января 1769 года Эрнсту Теодору Лангеру, особенно охотно цитируют со времени опубликования этих писем в 1922 году, потому что оно некоторыми своими формулировками доказывает обретенную наконец близость к христианской вере, несмотря на отдельные признаки колебаний и нерешительности. Это письмо отнюдь не связный отчет в том, что произошло с его автором, но оно содержит весьма важные места: «Со мною многое случилось: я страдал, я снова свободен, моей душе кальцинация пошла только на пользу, мои обстоятельства тоже улучшились, и если тело мое, как утверждают ныне, получит надежду на выздоровление, ибо открылась важнейшая причина моей болезни, то не было более счастливого события в моей жизни, чем это ужасное… Лангер, я рассуждаю иногда, ведь это ужасно! Я молод и стою на пути, каковой обязательно выведет из лабиринта, и кто может пообещать, что свет мне будет всегда сиять, как сейчас, и мне более не угрожают заблуждения. Но беспокойство! Беспокойство! Всегдашняя слабость в вере. Петр тоже был в нашем роде, праводушный человек, но боязливый. Ведал бы он, что у Иисуса власть над небом, землей и морем, он пошел бы по морю как по суху, его сомнение — причина, что он стал тонуть. Видите, дорогой Лангер, как смешно обстоит с нами; меня Спаситель таки уловил — я слишком долго и слишком быстро от него бегал, и он меня схватил за вихор. И за Вами он, конечно, тоже гонится, и я надеюсь дождаться, когда он Вас догонит, только каким образом — за это я не поручусь. Иногда я совсем об этом не беспокоюсь, иногда, когда я смирный, совсем смирный, и чувствую, что из вечного источника на меня изливается все добро. Если мы даже так долго и блуждаем, мы оба, то в конце концов это совершится».
Здесь встречаются места, плохо сочетающиеся с христианскими представлениями и верованиями. Вначале говорится о пользе «кальцинации»; то, что говорится о Петре и Иисусе, не свидетельствует о нерушимой вере в Иисуса. И что подразумевается под Спасителем, который его «уловил», и «вечным источником», остается открытым.
Кропотливому труду новейших исследователей мы обязаны тем, что намеки и как бы случайно оброненные замечания Гёте о том, чему он научился во время своей болезни во Франкфурте, расшифрованы и поняты в их широком значении. Теперь не вызывает сомнения, что увлечения Гёте так называемыми «герметическими» идеями были более интенсивными и имели более серьезные последствия, чем считалось до сих пор. Герметизм подразумевает тайное учение, прокламирующее истинное знание бога, мира и человека и утверждающее нерасторжимую связь от высшего и до низшего, между целым и отдельным. В герметических сочинениях разнообразного рода, начиная с поздней античности, некая мудрость, восходящая к первичному откровению, веками передавалась, разрабатывалась, модифицировалась и приспосабливалась к различным областям: к мистике, к натурфилософии, алхимии, к герметической медицине, которая диагнозировала болезнь на основании подразумеваемой и философски развиваемой взаимосвязи бога, мира и человека и пыталась лечить ее средствами, заключающими в себе силы универсума. Герметические сочинения, первоначально существовавшие как «Corpus Hermeticum» в эпоху поздней античности, выдавались за откровения Гермеса Трисмегиста (отсюда и само название герметический), под которым подразумевался египетский бог Тот. Здесь своеобразно сочетались религиозное откровение и философская мудрость платоновского толка — и эти герметические представления передавались из века в век и принимали различные направления. Считалось, что в этих герметических традициях сохранилась первичная мудрость.
Привлекательность герметизма для тех, кто к нему обращался как в прошлые века, так и в XVIII веке, заключалась в его притязании дать тайное целостное знание, существующее наряду с официальной церковной верой и «материалистическим» естествознанием, — знание, которому доступны наиболее сокровенные связи. Кто предался этому знанию, мог думать, что приобщился к созерцанию и познанию всепроникающего единства во множестве. Все было связано со всем, одно как бы отсылало к другому: открывались аналогии, которые вновь делали наглядной тайную божественную всеобщую связь. Analogia entis, сущностное согласие всего существующего, явилась предпосылкой поисков в единичном повсюду действующих сил.
В XVIII веке герметические учения оставались живыми, хотя и не для многих; они требовали философских размышлений, чтобы быть в состоянии, размышляя, созерцая и веруя, охватить царящие в универсуме связи и аналогии вместе с их воздействиями, чтобы, к примеру, понять и принять, что первичное единство бога, излившись по ступеням, преумножилось во множестве «миров» и что отдельные ступени суть лишь превращения божественного бытия, что на всех ступенях дают себя знать концентрация и расширение и существуют основные силы (как свет и огонь), которые выражают себя во всем, что возникло и живет; может быть, найден философский камень, некое универсальное средство, в котором были бы сконцентрированы действенные силы всей божественной природы. Герметические учения могли не порывать с христианской догмой, давая собственное тайное истолкование Библии. Но они могли также далеко отходить от христианской догмы, хотя признание «божественности» действующих в целом и в единичном сил оставалось незыблемой основой.