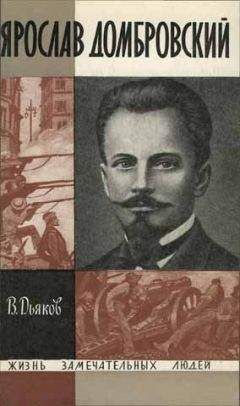Камера Домбровского находилась на втором этаже; она была второй слева на внутренней стороне той части здания, которая образует верхнюю перекладину буквы «П». Окно из нее выходило на кусок внутреннего двора, отведенный для прогулок арестантов. Тогда это играло определенную роль, поскольку окна еще не были забраны изобретенными позже высокими козырьками, оставлявшими открытыми только кусочек неба. По пути в комнату следственной комиссии Домбровский проходил вдоль всего коридора второго этажа, мимо «почтового отделения», мимо лестницы, по которой заключенных второго этажа выводили на прогулку. Путь в помещения для свиданий и в канцелярию вел мимо зловещей двери карцера, из которого нередко глухо раздавались стоны и крики очередного мученика. Как офицер, вина которого еще не доказана, Домбровский содержался первое время на самом мягком режиме. В таком же положении оказался организатор Повонзковской панихиды Огородников, дневник которого излагает первые впечатления его автора от Десятого павильона.
Процедура приема узника начиналась с беседы коменданта генерал-майора Ермолова. «Когда я вошел, — рассказывает Огородников, — он сидел и писал, вероятно, приказ о принятии меня в Десятый павильон […]. Кончив писать, комендант отдал записку писарю и приказал меня посадить «к Жучковскому» […]. Комендант раскланялся, и мы вышли в сопровождении писаря, вооруженного предписанием принять меня в лоно Десятого павильона […]. Подошедши к деревянной браме […], я вспомнил [надпись] над вратами ада [у] Данте и громко произнес:- «Оставь надежду навсегда…» […]. Но благодаря судьбе надежда очень скоро возвратилась ко мне…»
«На стук, — читаем далее в дневнике, — жандармская физиономия выглянула в круглое оконце, сделанное в воротах, но сейчас же опять спряталась. Писарь пошел в правый флигель [кордегардию. — В. Д.] […]. вызвал вахмистра и передал ему о приказании […]. Вахмистр […] спустя четверть часа вернулся к нам с приглашением следовать за ним. Брама затворилась — и потом три месяца уже не отворялась для меня. Темною лестницей мы вошли в слабо освещенный одним фонарем коридор. Фаланга замкнутых номеров, жандармы и часовые, мертвая тишина мрачно подействовали на меня. Я почувствовал, что меня оторвали от чего-то дорогого, родного — от жизни! Да, в эту минуту я лишился человеческих прав, прав и обязанностей гражданина надолго».
Но вот на сцене появляется зловещая фигура главного тюремщика. «В это время, — повествует дневник Огородникова, — из одного номера вышел жандармский пожилой офицер. Внутренний голос сказал мне: вот твой опекун, знакомый тебе по слухам Жучковский […]. Эта фамилия бросает меня в дрожь и действует на меня так, как бы при прикосновении к холодному телу гада.
— Мое почтение, — сказал он мне с какою-то адски вежливою улыбкою и вместе с тем голосом необыкновенно нежным — и я вспомнил голос демона к жертве. — Как ваша-с фамилия? — еще выше тоном спросил [Жучковский] меня.
— Такой-то.
— Сделайте одолжение, подождите вот в этом покое, я сейчас кончу одно дело, — и быстро вышел.
Я вошел в нумер, дверь за мной затворилась […]. Зная, что тут будут осматривать, занялся перемещением некоторых вещей из одного места в другое. Так, деньги из кармана переложил в обшлага пальто, яд спрятал в суспензориум, ключи от квартиры положил на окно. Остальные вещи были безопасные, а потому оставил их, где они были.
Наконец жандарм повел меня в соседнюю комнату, где вооруженный серебряными очками сидел над шнуровой книгой Жучковский.
— Вы, пожалуйста, извините, у нас такой порядок, чтобы осматривать поступивших сюда, а потому извольте раздеться, — обратился ко мне Жучковский, но уже не с улыбочкой, а заботливо вперив глаза в книгу.
Я молча покорился обстоятельствам. Один из жандармов, вероятно искусный и с развитыми сильно нервами в пальцах, начал ощупывать по порядку мой костюм. Отыскал деньги, но не нашел яд. Наконец дело дошло до портмоне, набитого разного рода невинными заметками. Тут-то глаза цербера необыкновенно разгорелись и разбежались по лоскуткам бумаги […]. С какой-то жадностью пересматривал [он] каждую бумажку и записывал в книгу, но увы! — поиски были тщетны, что и отразилось на его адской физиономии».
После разговора с Жучковским и внесения необходимых данных в «шнуровую книгу» арестованного доставляли в отведенную ему камеру. Огородников, который, как и Домбровский, помещался на втором этаже, описывает свою камеру так: «Комната в семь шагов длины, в шесть — ширины, вся зеленая; окно, замазанное такою же краскою; мелкая железная решетка, и только самое верхнее стекло не замазано и форточка полуоткрыта снизу вверх. Темнота и спертый воздух были сильно ощутительны […], и я с помощью стола влез на окно. Вижу маленький дворик, где по аллее в двадцать шагов длины гуляло два штатских под присмотром часового и жандарма. Я порадовался, что позволяют арестантам гулять, и со вниманием продолжал свои наблюдения. Через десять минут увели двух штатских, в потом привели опять двух — одного военного, которого я знал (Шлиссельбургского полка Вышемирский)[22] и который был арестован в ночь по выстреле в великого князя Константина, другого — штатского. Не успел [я] хорошо всмотреться в гуляющих, как вдруг услышал сильный стук в двери. Оглядываюсь — и вижу черномазую физиономию жандарма. Я хотел сойти с окна, но в этот момент входит раскрасневшийся Жучковский.
— У нас окна не для того, чтобы лазить. Я у вас велю взять и койку и стол.
— Я этого не знал, — отвечаю ему.
— Так я вас предупреждаю, если еще раз увижу, то отберу кровать».
Рассказывая далее о первом дне своего пребывания в тюрьме, Огородников писал: «Начал по примеру предшественников вырезать на дверях свою фамилию, потом вырезал надгробный памятник с надписью фамилий рас стрелянных[23]. Инструментом для этого служил мне штифтик от пряжки брюк». На второй день Огородникова перевели в другую камеру. «Я, — говорится в дневнике, — обрадовался случаю пройтись не по комнате, да и разнообразию (в моем положении и это много значило). Последовали за жандармом и я и моя койка. Новый номер по одной выкройке. Сейчас же занялся исследованием стен; прочел зачеркнутую фамилию Сливицкого, решился и тут сделать ему памятник. В другом месте [надпись: ] «Подпоручик 6-го стрелкового батальона Монастырский», вверху ноты — артист везде [остается] артистом».
Владимир Монастырский был сослуживцем и другом Огородникова. Активный участник военной организации, он был хорошо известен и Домбровскому: в воспоминаниях Пелагии Домбровской Монастырский упомянут одним из первых в числе знакомых ей единомышленников жениха.