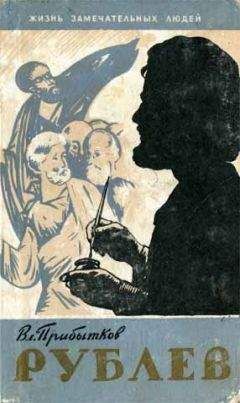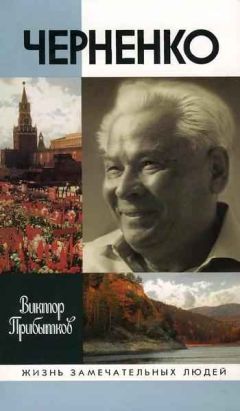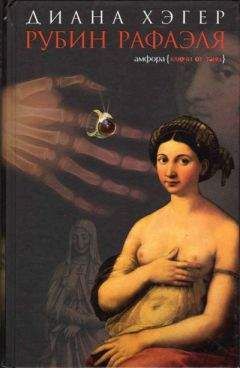Но даже в наиболее рублевских фигурах деисуса — в апостоле Павле и Дмитрии Солунском, где так много поэтичности и сохранились пресловутые «плавь» и «белильные отметки» на ликах, что объявлялось «несомненным» признаком рублевской кисти, уместней видеть отличную школу великого мастера, чем непременно его самого.
Во всяком случае, не эти иконы являются высочайшим достижением живописи эпохи, не они становятся этапом русского искусства, ибо Рублев здесь только повторен, а не выступает в новом качестве.
То же самое можно сказать о «Воскрешении Лазаря», где в пленительном образе Марии больше трогательности, беззащитности, доверчивости, чем в подобной же иконе Благовещенского собора.
Уверенность и человечность кисти здесь подтверждены, но не служат средством для выражения каких-либо новых мыслей и эмоций.
Значения иконы это умалить не может. Но убеждает в том, что больших усилий для ее создания Рублеву (если «Воскрешение Лазаря» писал он) не понадобилось.
Большинство же остальных икон вне сомнения принадлежит ученикам Андрея Рублева.
Ученикам верным, последователям умным, помощникам прекрасным, но художникам вполне самостоятельным.
Возможно, одним и тем же мастером выполнены фигура Николая-чудотворца и «Причащение хлебом», где образы трактованы довольно сухо, а лики апостола Петра и Николая, похожие на лица крестьян, говорят о вполне определенных симпатиях автора, намекают на его происхождение из народа.
В «Положении во гроб» другой мастер стремится передавать сильные душевные движения. Бесконечна и нежна здесь скорбь матери, непередаваемо отчаяние жен, но иконе не хватает полноты рублевского лиризма, она звучит трагично.
Изумительны «Жены у гроба», икона, возглашающая радость победы над смертью, с ее тремя женами-мироносицами, ангелом, повелительно взметнувшим ослепительно белое крыло над пустым саркофагом Христа, и расступившимися перед крылом горами.
Просто, чисто сочетаются в иконе зеленые, желтые, красно-коричневые тона.
Потрясающе убедителен на их фоне резкий удар белого.
Фигуры жен — олицетворение женской грации и изящества. Они превосходят нежностью и гибкостью все ранее созданные образы иконописи, включая и образы самого Рублева, но здесь красота юной плоти все же лишь красота формы, а не внутреннего побуждения, что лишает ее значимости и неодолимой притягательной силы.
Первоклассно выполнены «Сретение», «Тайная вечеря», «Вход в Иерусалим», «Крещение», но и здесь, строго говоря, видны лишь могучий отсвет рублевского гения, следование Рублеву, а не дальнейшее развитие его.
Замечено, что для мастеров всех этих икон как бы существует некая мера, некий идеал, к достижению которого они в меру своих возможностей и стремятся.
Если это действительно знаменитая «Троица», то, значит, она написана ранее поездки Рублева к Никону.
Непонятно только, что же тогда делает, что пишет во время пребывания в Свято-Троицком монастыре сам Рублев?
Какую картину создает, отдавая ей большую часть времени и сил?
Над чем трудится так долго и упорно, что Никон, чувствуя приближение смерти, торопит живописцев «спешно бо они творяше дело»?
Какую задачу никак не может решить, если ему уже оказалась по силам даже «Троица»?
Неизвестно.
Иконы, которая превосходила бы этот шедевр Рублева, в иконостасе нет, и современники о существовании чего-либо подобного ей не упоминают.
Зато они прямо указывают, что Рублев, приглашенный Никоном, написал образ «живоначальные Святой Троицы» «в похвалу отцу своему Сергию».
Это свидетельство тем не менее полагают недостаточным для датировки «Троицы» временем работы у Никона. Находят, что икона могла быть привезена художником в монастырь из Москвы.
Допустим такую возможность, оставив пока открытым вопрос, чем же занят Рублев при росписи Троицкого собора.
Всмотримся в «Святую Троицу» Андрея Рублева так, как умел всматриваться в чужие работы сам художник.
Догмат троичности божества возник в христианской религии на основе заимствования у диалектики античности. В нем нашло искаженное отражение античного представления о мире, как несомненной «вещности», единстве противоположностей, целостности взаимоисключающих частностей.
Говоря о возникновении христианства, Энгельс писал, что в последние дни античного мира: «Всеобщему бесправию и утере надежды на возможность лучших порядков соответствовала всеобщая апатия и деморализация»[8] и указывал, что при тогдашнем положении вещей «утешение должно было выступить именно в религиозной форме»[9].
Догмат троичности и призван был выразить надежду на возможность установления утраченной человечеством гармонии, указывал путь к гармонии через страдание и примирение с неизбежным, через познание и проповедь «истинного учения».
Таков идеалистический смысл этого догмата.
Как писали «Троицу» до Рублева, мы знаем. Иллюстрируя легенду о явлении патриарху Аврааму и жене его Сарре трех ангелов, возвестивших скорое чудесное рождение Саррой сына, художники дали два типа изображения библейского предания.
Один тип, самый ранний, встречается в византийских и русских иконах вплоть до конца XIV века. Ему следовал в своей новгородской работе и Феофан Грек.
Средний ангел рисовался здесь довлеющим над двумя остальными, превосходящим их.
Это соответствовало рассказу о том, что бог спускался на землю в сопровождении, так сказать, рядовых чинов ангельского лика.
Новая догматика отвергла прежнее толкование. Она утверждала: явленные Аврааму и Сарре три вестника были тремя воплощениями единого божества.
В соответствии с этим появился в иконописи и второй тип «Троицы». Тут фигуры ангелов рисовались равновеликими, а головы их окружались одинаковыми кресчатыми нимбами, что должно было намекать на единство «внутренней сущности» вестников.
Сразу задаешь себе вопрос: неужели ни один из предшественников Андрея Рублева не обладал ни талантом, ни достаточной техникой, чтобы выразить единство ангелов не одним лишь формальным приемом?
Двух ответов не существует. Опытные и талантливые художники и в Византии и на Руси были и до Рублева.
С ним рядом в конце концов жил Даниил Черный, работала целая плеяда талантливых учеников.
Отчего же никто до Рублева не сделал того, что сделал он сам? Отчего никто не сосредоточил внимания именно на внутреннем единстве «божества», отчего все ограничивались лишь показом момента торжественного вещания Сарре, показом величия «творца мира»?
Двух ответов не существует и здесь. Для одних «единство бога» является самим собою разумеющимся, доказательств не требует. Им вовсе не нужно говорить об этом.
Для других, более пытливых и умных, очевидна опасность, таящаяся в невинной на первый взгляд задаче воплотить, доказать средствами искусства недоказуемый догмат, требующий только веры, а отнюдь не понимания, которое уже по одному существу своему противоречит вере.
Андрей Рублев не менее религиозен, чем первые из этих живописцев, и не менее мудр, чем вторые из них.
Не испытывая сомнений в догме, он, бесспорно, сознает, на что решается, принимаясь за свою «Троицу».
И тем не менее решается.
Отходит от принятые форм.
Не просто иллюстрирует легенду, а считает нужным говорить о догмате троичности, доказывать его, убеждать в общности единичного и множественного, в единстве целого и частного.
Выступает не как начетчик, а как философ, настойчиво бьющийся над познанием сущности бытия, пытающийся проникнуть в его тайны, найти ответ на вековечные, пока еще не решенные эпохой загадки природы и общественной жизни.
Откуда такая властная потребность в познании, в страстной проповеди?
Что вызывает эту неутолимую жажду, что питает могучую творческую волю Рублева, его беспредельную решимость сказать все до конца?
Сказать даже ценой отказа от многих прежних средств выразительности, достигнутых годами тяжкой работы?
Где эпицентр могучего толчка, вызывающего бурную вспышку деятельности гения, его новое, не имеющее равных дерзание, его новую, не сравнимую ни с чем дотоле написанным картину?
В благочестивом чтении священного писания? Во внезапном, ниспосланном свыше наитии? В «откровении», которого сподабливается истязатель плоти и «молчальник»?
В созерцании «богоугодных» сцен монастырской жизни?
Признавая «Святую Троицу» произведением, написанным вне определенных условий конкретной действительности, рискуешь докатиться до признания «причин» именно такого сорта и очутиться в объятиях церковников.
Конечно, нежелательность таких объятий — еще не доказательство написания иконы в каком-то определенном году. Однако это обстоятельство достаточно серьезное, чтобы задуматься о действительных причинах, побудивших Андрея Рублева толковать библию.