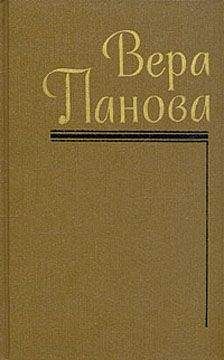27. Зима 1934/35 года
В этом году наши домохозяева продали свой дом артели ломовых извозчиков. Чтобы освободить дом от жильцов, ломовики сняли нам квартиру (очень невзрачную) в домике рабочего-застройщика Заднеулицына в доме 80в на Богатяновском проспекте (ныне проспект имени Кирова). Мы переселились туда 24 ноября 1932 года. Я принимала в переезде большое участие, передвигала и поднимала тяжелые вещи и неудивительно, что утром 25 ноября, проснувшись, почувствовала предродовые боли. Я немедленно пешком пошла в ту самую частную больничку Р. Е. Собсович, где родились оба мои старшие. Там все было, как прежде, белоснежно и педантично.
Меня, как прежде, без конца мыли, прежде чем уложить на койку, к которой было приставлено огромное кресло с приготовленной для будущего младенца постелькой.
Имея уже двойной опыт, я боялась родовых мук, и меня убеждали, что в третий раз мне покажется совсем легко. Это оказалось пустой болтовней, боли были столь же мучительны, как в первый и во второй раз, и вдобавок случилось следующее: после многих схваток мой мальчик вдруг повернулся во мне (я почувствовала этот поворот, подобный толчку, сотрясшему все мои внутренности) и пошел не головкой, а ножками. Розалия Елеазаровна и ее помощницы страшно всполошились и стали готовиться: приготовили таз с горячей водой и таз с холодной, и когда дитя вышло, его стали окунать попеременно то в один таз, то в другой, а в промежутках усердно растирать мохнатым полотенцем и делали это до тех пор, пока оно не чихнуло. Чихнув, оно стало дышать, а затем немедленно залилось голодным криком, требуя пищи. Наташа, родившись, целые сутки не просила груди, довольствуясь слабым теплым чаем с ложечки, Боря попросил грудь лишь часа через четыре после рождения, Юрочка же затребовал пищи сразу, едва глотнув воздуха. Он взял сосок губами уверенно и твердо и сразу стал сосать, словно его этому кто-то научил. Это, а также то, что он от рождения был очень похож на отца, необыкновенно сильно привязало меня к нему.
Я уверена, что если бы жизнь не разлучила нас с Борисом так рано и жестоко, то у нас было бы еще много детей, еще много красивых и умных сыновей, потому что мы были так молоды и так друг друга любили.
С рождением Юрика возникло много бытовых затруднений, маме было очень трудно управляться с тремя детишками, няньки попадались все такие, которым мы не решались доверить наши сокровища, бабушка Надежда Николаевна стала очень хворать, и маленькие дети ее беспокоили, а главное, на юге начался тот голод, от которого осталось так много могил в сельских дворах Северного Кавказа и Украины. Мы питались плохо, и у меня очень скоро стало не хватать молока для моего маленького. С разрешения врача я его стала очень рано прикармливать, так что он не голодал, но зато, отведав молочного киселька, манной каши и сладкого кофе с молоком и печеньем, он наотрез отказался от моего молока, и на этой почве между нами каждый день происходили драмы.
Потом стало полегче. Сперва Бориса, а потом и меня прикрепили как ударников к каким-то закрытым распределителям, и голодать мы перестали. На базаре появились (правда, по баснословным ценам) молочные продукты, яйца и мясо. Старших двух детей устроили в частную группу с немецким языком, там они проводили время до обеда. Борис стал работать в краевой газете «Молот», где его зарплата была выше.
Зима 1934 года была для нас светлой (свет перед наступлением полного мрака). Мы оба любили своих детишек и свой угол и старались пораньше прийти с работы, чтобы провести вечер в кругу семьи. Борис находил, что я не так купаю детей, как надо, и купал их сам, и действительно, он так ловко мыл им головы, что мыло совсем не попадало им в глаза и у него они никогда не пищали. Он купал их, сажая в ванночку по двое, и стоял над ними с засученными рукавами, а я их принимала одного за другим из его рук, чтобы вытереть нагретой у печки простыней. Мы оба любили это занятие. Еще больше Борис любил после обеда лечь на кровать в нашей крохотной спальне, а дети чтоб садились на него верхом (Юрик садился ему на грудь, Боря на живот, а Наташа на колени), и он им рассказывал всякие сказки и истории.
Помню такой случай: Наташа очень раскапризничалась, невозможно было ее ничем успокоить, и Борис стал ей говорить, что ее капризы очень огорчают маму, то есть меня, что я могу от этих огорчений заболеть так сильно, что придется положить меня в ящик и закопать в землю навсегда. Он так прочувственно это рассказывал, что и у него, и у меня навернулись слезы. Дитя же, прослушав внимательно до конца, сказало:
— Расскажи еще раз.
Борис дурно выговаривал букву «р» — у него получалось то «л», то «в», то вообще ничего не получалось. Схожие нелады были у него и с буквой «л». Помню, как однажды, показывая детям картинки в какой-то книге, он вдруг громко позвал из спальни:
— Вера! Иди скорей!
Я пришла.
— Скажи им, как называется эта птица, — сказал он, показывая на картинку.
Птица была орел. Он никак не мог ясно выговорить это название.
Первоначально Борис занимал в редакции «Молота» место завотделом информации. Информация передавалась по вечерам, поэтому вечером он был занят в редакции и возвращался поздно. Утром он тоже ехал в редакцию, а до этого мы завтракали всей семьей, причем Юрик радовал нас и забавлял своим аппетитом. Отец съедал яичницу из трех яиц и выпивал два стакана кофе, и Юрик съедал яичницу из трех яиц и выпивал два стакана кофе. Старшие ребята ели хуже и капризничали, Юрик — никогда.
К обеду Борис возвращался из редакции, и обедали мы опять-таки всей семьей. Затем он ложился отдохнуть в нашей комнатке, а детей усаживал на себя, и они час-полтора премило играли в этой позиции. Игры придумывал отец. В это время он рассказывал им что-нибудь и читал книжки.
Как сейчас вижу эту бедную комнатку, на окне ситцевая занавесочка, перед окном маленький письменный стол, под углом к нему кровать, на ней лежит плашмя Борис, на Борисе лепятся детишки.
Боже мой, кому и чему это мешало, что мы были счастливы?
Впрочем, и тогда у нас были горести. Стала очень хворать и быстро шла к концу бабушка Надежда Николаевна. Она давно уже мучилась тяжелыми болями и раза два ложилась в клинику для исследования, но определить ее болезнь врачи не могли. Когда боли становились нестерпимыми, она опускалась на колени перед своей постелью и прижималась к ней животом, ей казалось, что это облегчает боль. Она скончалась на руках у мамы и у меня. Я помню, ее смерть очень поразила Бориса, я не понимала, почему это так, пока не догадалась, что он попросту боится вида смерти и мысли о ней. Когда покойницу стали поднимать, чтобы положить в гроб, и во время подъема из мертвой груди вдруг вырвался легкий всхлип — Борис закричал так страшно, что я за него испугалась.