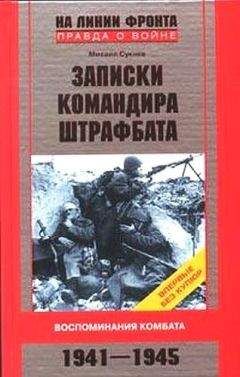Как назло, рядом в лесу встал из резерва до распределения батальон… СВЯЗИСТОК! Да каких: одна краше другой! Одесситы сразу ко мне, комиссара Калачева они избегали. Просят разрешить им пригласить в гости девчат-связисток, только на один вечер, в их «штольни».
— Вам, товарищ комбат, приведём самую красивую! — предложил один, с которым мы ещё встретимся в Одессе после войны…
Знаю, если отказать — в бою первая же пуля моя! Что делать? Придётся разрешить, но при этом достать СЛОВОМ до души! Иначе беды не избежать ни им, ни мне. Подгуляют, разберутся по парам… Говорю:
— Одно главное условие: тишина и никаких излишних возлияний, товарищи! В полночь чтобы в расположении батальона никого из связисток не было. Мне же не положено быть при вашем бале-маскараде!
Сто благодарностей в мой адрес. И ночь прошла наполовину весело, но к утру все мирно-тихо. Даже наш «Смерш» этот «бал» прозевал, а комиссар Калачев, друг мой, промолчал. С этого часа у одесситов и ростовчан, серьёзного воровского мира, я стал больше, чем товарищ, — БОГ!
В последующих боях они старались защитить меня от шальных пуль, подставляя себя, боясь потерять «такого» комбата… Кстати говоря, мою охрану составлял взвод автоматчиков из одесситов. Этот взвод был и резервом в бою.
Смотришь фильм 1989 года Одесской киностудии «ГУ-ГА» о штрафниках, и не хватает зла на сценаристов — сплошная ложь, вымысел! Даже написал на киностудию письмо. Но кто нас, фронтовиков, слушает? Картинка из фильма. Идет строй в ряд по четыре, с ПРИМКНУТЫМИ ШТЫКАМИ на винтовках на ремне. Разве так ходили? Ведь запнулся и переднего убил. Или такой эпизод. Никто не хочет петь строевую. Комбат кладет строй несколько раз на пыльную дорогу: «Встать! Ложись! Встать! Ложись!» Какая же чушь. Ведь в первом же бою такого командира ждет пуля или нож в спину.
…Но вот прошло время военной подготовки. Звонок от самого комдива Ольховского.
— Сукнев, к вам со мной завтра в полдень будет генерал Артюшенко! Смотр. И гляди, что не так, он бьёт в ухо! — смеётся полковник.
— Сойдемся характерами, — ответил я Ольховскому.
А Артюшенко действительно мог. При мне одному полковнику как дал! Ну, думаю, до этого не допущу, я — строевой, гвардеец. Перед этим мне друг, помощник начальника штаба из дивизии Волков привез прямо в лес новенькие майорские погоны, которые мы с ним и обмыли.
* * *
Следующий день. Полдень. Батальон выстроен по лесной дороге, нами же утоптанной. Впереди офицерская рота. За ней — медвежатники, как я уже говорил, грамотнейшие технари на все руки, чуть ли не интеллигенция. Последняя — пулемётчики, тоже из офицеров. И замыкающие — рота басмачей.
Из лесной просеки перед строем появилась кошевка, которую нёс строевой вороно́й, в белых чулках, рысак. Из кошевы вышли начальники — наш комдив и генерал. Остановились перед строем. Даю команду: «Батальон, смир-рно! Равнение на — средину!» — и чеканю шаг с рукой у виска, от строя прямо к генералу Артюшенко, высокому, как и маршал Тимошенко, только молодому, не так давно произведённому из полковников в тихвинских боях. Доложил строго, звонко, точно по уставу, ни задоринки, ни «пылинки». Вижу, Артюшенко понравилось. «Слава богу, пронесло!» — подумалось. И Ольховский довольно усмехается. Он невысокий ростом. Стоят они с генералом будто Паташон с Патом…
Артюшенко вдоль строя идёт, я следом. А один басмач ночью заснул у костра, сжёг половину полы. Я его поставил в четвёртый ряд, а он вдруг вылез в первый. Ругаю его: «Какой чёрт тебя вытащил! Три шага назад! Чтоб скрылся с переднего ряда!» Артюшенко захохотал, говорит потом: «Ну ладно. Давайте — маршем пройти».
Командую своим орлам, командирам рот: «Шагом марш!» И всё — руби ногой! — пошли. Ну там снег, идут в валенках, рубить-то нечем. Первыми — русские офицеры, очень хорошо прошли. Одесситы за ними следом — ничего прошли. Потом эти басмачи. Все такие неуклюжие, малорослые. Может быть, бандиты они хорошие, а вояки никакие, это их в кино героями показывают. Но старались и они. В интервал между ротами выскакивают человек пять вперёд и пляшут какую-то свою национальную «увертюру», кричат: «Ла-ла-ла». Артюшенко как грохнет, сколько духу захохотал. Махнул рукой: «Поехали!»
В ухо я не получил от благодушного, как мне казалось, генерала-фронтовика, командира нашего 14-го корпуса
…Мы заняли оборону центром в селе Слутка, где не осталось ни одного дома, избы, все изрезано траншеями и ходами сообщений, на высоком берегу против высоты Мысовая, где погиб 1-й батальон Гайчени. Там, на западном склоне, на кладбище, могила Григория Гайчени, потом обнесенная металлической оградкой. На мраморной плите — его портрет и имя… О его комиссаре Фёдоре Кордубайло, русском греке, ни слова, хотя он после геройской гибели Гайчени вел батальон дальше в прорыв и погиб тоже героем… Тогда здесь погибли многие командиры взводов и солдаты из нашего, лелявинского, 1-го батальона.
* * *
3-ю роту — из басмачей — вывели в первые траншеи в Слутке. Это движение противник заметил, но молчал в ожидании нашего нового безумного броска на высоту…
Шатурный командует, чтобы один из взводов роты стрелял залпами по той стороне. Но на всё ответ — «бельмей». Другой взвод — тоже «бельмей». Но я-то знал, что басмач должен снимать из винтовки пулей птицу с неба!
Шатурный руками разводит. Пришлось вмешаться.
— Товарищи «бельмей»! — обращаюсь к роте. — Ставим вам на пятерых по ящику патронов — это под триста штук. И чтобы к утру в них не было ни одного не выстреленного патрона. Если у кого останется, того лично буду расстреливать! Бельмей?
Закивали головой. И всю ночь дружные залпы из трофейных винтовок доносились от Слутки.
Сами немцы обычно ночью стреляли трассирующими всю ночь. Всегда, когда к передовой подходишь, видны красноватые, зелененькие, розовые трассы. Вся их передовая живет до утра. И ракеты осветительные вешают. А наша сторона молчит. Во-первых, стрелять незачем, во-вторых, патроны экономить надо, их обычно был недостаток. А те лупят. И как? Если холодно, они днем пристреляют цели, шнур привяжут к рычагу, сидят в блиндаже за 300 метров от окопа и дергают. Наши разведчики, бывало, придут — пулемет стреляет, пулеметчика нет. Ползают, ползают по траншее, а обратно придут пустые, без «языка». Так было у Лелявина и потом.
Басмачи палят, всё исполнили. Уперев приклад в землю, между ног, палили в тёмный свет, как в копейку. А немцы молчат — не поймут, что за стрельба залповая гремит. И пули-то немецкие, и трассирующие, и разрывные, но к ним не летят. Может, подумали, что русские с ума сошли…
Двое басмачей-штрафников совершили самострелы: с расстояния в несколько метров выстрелили себе в ладони из винтовок. Такое каралось расстрелом…