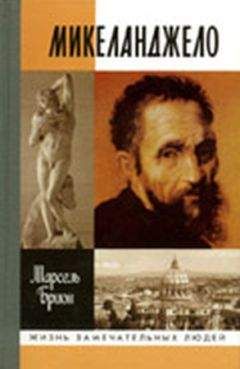Я же больше ни о чем не спрашивал и, лежа в постели, только смотрел на деда за Геморой. Большой силой веяло от этого высокого, худощавого, строгого человека, который словно появился на свет, чтобы стать пастырем своей общины. Он управлял городом по справедливости, милосердно, ничего не сглаживал, ничего не забывал, никого не боялся, никого ни перед кем не высмеивал.
Помню, однажды, когда мы были у деда, в Билгорае как раз умер глава городской еврейской общины, человек богатый и пользовавшийся уважением начальства. Если я не ошибаюсь, его звали Довид Люблинер. Сыновья умершего пришли к дедушке просить, чтобы он произнес поминальную речь. Но дед отказался, ведь, хотя умерший и был набожным человеком, он не отличался ученостью или особой богобоязненностью, которые позволили бы выделить его среди других городских жителей. Сыновей это задело, и они выложили перед дедом сначала сто, а потом и двести рублей: в те времена это было целое состояние, особенно для моего деда, которому нужно было содержать такую большую семью. Но он не захотел и слышать об этом, хотя со всех сторон его уверяли, что он тем самым портит отношения с самыми влиятельными людьми в городе, которые могут ему повредить в глазах начальства. И будто этого мало, дед в тот же день произнес поминальную речь об умершем бедняке, который был, однако, большим ученым и благочестивцем. Это еще больше разгневало сыновей богача, но они не решились сказать деду в глаза ни слова. Также не смели ничего ему сказать и городские хасиды, недолюбливавшие его из-за того, что он не верил в «добрых евреев». Я помню, как в городе разразилась большая война между радзинскими хасидами с одной стороны и последователями других цадиков: герского, трискского, белзского, горлицкого, ридницкого, сандзского и прочих[223] — с другой.
Ссора вышла из-за умершего радзинского хасида, которого погребальное братство отказалось хоронить в талесе[224] с голубой нитью в цицес.
Радзинский ребе реб Гершом-Генех[225] очень беспокоился из-за того, что евреи в изгнании не используют тхелес[226], голубую краску, для своих цицес, хотя Тора предписывает ее использование и так поступали евреи в Земле Израиля. Ребе провел большое исследование, посвященное тхелесу, и пришел к выводу, что в Средиземном море живет тварь, называемая «хилазон», у которой голубая кровь: именно ею Тора и предписывает окрашивать нить для цицес. Он привез домой этих морских тварей, убил их и выкрасил их кровью одну нить, называемую «шамес», в цицес каждого своего хасида, как на их талесах, так и на их арбоканфесах. Он также оповестил всех раввинов и хасидских ребе, что они должны воспользоваться его открытием и приказать всем евреям, чтобы те использовали обнаруженный им тхелес. Среди раввинов поднялся шум. Раввины и хасидские ребе считали, что только после прихода Мессии люди узнают, что такое тхелес, а ныне живущие не имеют права решать такие вопросы. Радзинский ребе, ярый полемист, обвинял своих противников в том, что они завидуют его славе и оставляют евреев молиться в цицес, не содержащих нити, окрашенной тхелес, а это, согласно Торе, все равно что вовсе не носить цицес. Хасиды других ребе заявили, что со стороны радзинского ребе это большая наглость — обвинять евреев и цадиков в таком грехе. Они также утверждали, что радзинский ребе заинтересован в этом деле, так как получил монополию на голубые нити и назначил высокую цену за свой тхелес.
Эта война полыхала в среде польских евреев много лег. Противники стыдили друг друга и даже дрались. Из-за голубых цицес расстраивались свадьбы, разводились пары. Как-то летом, когда я был у деда, умер один радзинский хасид. Его сыновья и друзья, радзинские хасиды, хотели похоронить его в талесе, на котором были цицес с голубой нитью. Члены погребального братства, бывшие хасидами других ребе, не захотели должным образом похоронить умершего в таком талесе. В городе начался скандал. Покойник лежал непогребенным. Дед послал за главными скандалистами из числа членов погребального братства и приказал им похоронить покойного в его талесе с голубой нитью в цицес. Для хасидов, особенно герских, это был жестокий удар. Они пробовали возражать:
— Ребе, но это же грех, святотатство…
— Самый большой грех и святотатство — это раздоры между евреями, — ответил дед. — Я беру этот грех на себя…
Ярые хасиды подчинились раввину-миснагеду, не осмелились противостоять ему. Да и не только хасиды — «грешники», просвещенные люди также не решались выступать против деда. В городе был доносчик[227]. Дед его преследовал. Доносчик не смел сказать ни слова, а лишь выслушивал дедушкины нравоучения и угрозы.
Однажды кто-то пришел к дедушке и рассказал, что на свадьбе дочери лекаря с сыном клезмера танцуют «шатнез»[228], то есть парни танцуют с девушками. Люди такого сорта тогда считались среди евреев самыми скверными, ведь что может быть хуже, чем лекарь и клезмер[229]? Но дед не мог потерпеть в своем городе подобного бесстыдства. Он тут же надел атласный халат и бархатную шляпу и в сопровождении Шмуэла-шамеса отправился в дом лекаря, дабы самому убедиться, что такой грех действительно совершается среди народа Израиля. Когда молодые клезмеры и их девицы узнали, что идет раввин, они потушили лампы и попрыгали в окна. Вот как дрожали в Билгорае перед городским раввином.
Из множества других эпизодов, случавшихся в доме моего деда, я хочу напоследок рассказать еще два.
Я помню, как однажды к дедушкиному дому подъехал большой воз, груженный сеном. Из сена торчали раввинская шляпа и большая шаль, обмотанная вокруг скорчившейся под ней фигуры. Извозчик, еврей-арендатор, буквально на руках вынес из сена раввина, одетого в несколько жупиц, хотя стоял теплый летний день. Из кухни выбежала тетя Рохеле и от удивления ущипнула себя за щеку.
— Папа, папа! — закричала она. — Ичеле, смотри, кто приехал, папа!
Это был дедушкин сват, реб Ешиеле Рахевер, раввин Высоко, написавший кучу книг, в которых на все налагался запрет. Едва он выпутался из всех своих одежд и несколько раз вымыл руки, как тут же принялся рассказывать о новых наложенных им запретах.
— Вы знаете, сват, я обнаружил, что в картофеле, возможно, есть квасное, и потому евреям лучше бы не есть картофель в Пейсах…[230]
При этом он принялся приводить толкования, показывая, откуда он взял новый запрет.
— Что же евреи будут есть в Пейсах, реб Ешиеле? — спросил дед, тихо усмехаясь в бороду.
Реб Ешиеле не ответил на этот вопрос и стал говорить о своих новых подозрениях относительно других продуктов, которые евреям также не следует брать в рот. Дед молча выслушивал аргументы свата, которые его мало убеждали, и только тихо улыбался.