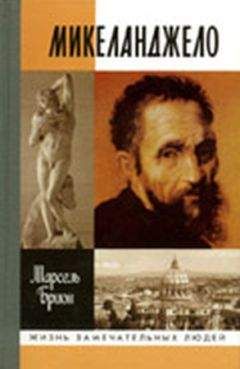Реб Ешиеле не ответил на этот вопрос и стал говорить о своих новых подозрениях относительно других продуктов, которые евреям также не следует брать в рот. Дед молча выслушивал аргументы свата, которые его мало убеждали, и только тихо улыбался.
— Вы, реб Ешиеле, все стараетесь найти, чего евреям есть нельзя, — сказал он. — Это не фокус. Лучше было бы найти то, что евреям есть можно: беднякам нужна еда, реб Ешиеле…
Тогда реб Ешиеле снова принялся искать аргументы, но дедушка предложил ему лучше попробовать угощения, которые бабушка поставила на стол.
— Ешьте, сват, — подбадривал дедушка. — Ешьте сами и дайте поесть другим…
Простоватый набожный раввин не понял тонкого намека и с энтузиазмом стал объяснять свое учение, из которого он выводил, что все в этом мире должно быть для евреев запрещено…
Дядя Иче, зять реб Ешиеле, часто смеялся над своим тестем-книжником. Он рассказывал на кухне, что однажды реб Ешиеле поехал в Люблин со своей дочерью, тетей Рохеле. А так как реб Ешиеле боялся, что люди заподозрят, что он, не дай Бог, едет в одной подводе с посторонней женщиной, то кричал на всех люблинских улицах: «Люди, знайте, что я еду со своей собственной дочерью…»
Встреча деда и реб Ешиеле меня очень позабавила.
Вторая встреча, которая произвела на меня сильное впечатление, произошла между моим дедом и «добрым евреем».
В Билгорай приехал собирать деньги у своих хасидов цадик реб Мотеле из Казимира, отпрыск чернобыльской династии[231]. Как это было принято, ребе нанес визит городскому раввину. Хотя дедушка был миснагедом, он принял своего гостя, «доброго еврея», очень почтительно и предложил ему свое кресло во главе стола. Ребе уселся рядом с дедушкой. Вокруг стола толпились хасиды и приближенные ребе.
Бабушка принесла угощение — яблоки, груши и сливы. Дед, как обычно, принялся беседовать с гостем на ученые темы. Но «добрый еврей» вовсе не хотел вести ученые разговоры, потому что, вероятно, не был большим знатоком, и стал, гримасничая, напевать, как это в обычае у «добрых евреев». Вместо ученых разговоров он принялся без конца рассуждать о гематриях, то есть о том, как искать числовые значения слов в стихах Торы. Мой дед не слишком хотел обсуждать такого рода науку.
Габе цадика сразу же принялся за торговлю. Как только ребе попробовал сливу, габе тут же начал торговать «кусочками»[232].
— Ровно рубль серебром за сливу! — выпевал он, как при продаже вызовов к Торе[233]. — Ровно рубль с полтиной… Два рубля…
Хасиды перебивали друг у друга цену. Скоро прибежали женщины с детьми и стали просить, чтобы ребе их благословил. Ребе благословлял, но его габе заранее требовал платы за каждое благословение. Прежде чем ребе покинул дедушкин дом, габе продал право проводить его. Ребе прихрамывал на одну ногу, поэтому его нужно было вести под руку. Честь проводить ребе стоила денег…
Когда ребе и его хасиды ушли, дед вытер стол носовым платком, как будто хотел стереть с него все следы присутствия оборотистых хасидов; при этом он ни слова не сказал своему ученику Тодросу, талмудисту и миснагеду, который посмеивался над тем, что только что увидел и услышал.
— Ну же, учись, не сиди без дела! — приказал дедушка и уселся учить Талмуд вместе с парнем, к которому был очень привязан.
В конце лета, в начале месяца элул[234], мать забирала нас с сестрой, и мы возвращались домой, в Ленчин.
Бабушка пекла нам в дорогу горы булочек, давала с собой варенье и несколько бутылок сока. По пути я рвался сесть возле балаголы, вылезал из буды на холмистых участках дороги, свистел лошадям. Мама стыдила меня, внука билгорайского раввина, за такое неподобающее поведение. Когда мы проезжали через город Янов, мама показала мне на здание тюрьмы с зарешеченными окошками и сказала, что, если я не буду вести себя по-людски, а буду думать только о лошадях и балаголах, я однажды окажусь в этой тюрьме, где сидит билгорайский «умник» Ичеле-Шмуэл, Фанин сын, который все возился с лошадьми да водился с конокрадами. И с тех пор всегда, когда я делал что-то неподобающее, мама называла меня «Ичеле-Шмуэл, Фанин сын».
Так мы ехали через местечки, деревни и леса Люблинской губернии, которую называли «владениями царя нищих». Мы проезжали через старинные еврейские города, упомянутые в еврейских книгах со времен «гонений тов-хес»[235]: Замостье, Шебжешин, Горай[236], Юзефов[237] и многие другие. Города со старинными синагогами и еврейскими кладбищами. Города с древними соборами и башнями, с большими круглыми рыночными площадями, окруженными деревянной стеной с навесами, которые называются «починами», под ними сидели лавочники и торговки. Города со стародавними еврейскими обычаями, в которых на рассвете шамес созывал обывателей в синагогу, а белферы, напевая, вели в хедер маленьких детей. Города, в которых глашатаи били в барабан на рыночной площади, объявляя о новых законах и указах, а ученики хедеров украшали в честь праздника окна домов вырезанными из бумаги оленями, львами и птицами. В этих краях не только евреи, но и мужики выглядели самыми традиционными во всей Польше. Ведь ни в какой другой части Польши крестьяне не носили таких длинных — часто по плечи — волос, таких разноцветных квадратных шапочек с кистями, висящими на каждом уголке, таких длинных вышитых сукманов[238], таких пестрых кушаков на бедрах и таких расписных ходоков[239] на ногах. Ни в какой другой области у крестьянок не было таких необычайно высоких, тугих тюрбанов на голове, скрученных из больших разноцветных шалей, которые называли хамулками[240]. Нигде больше в Царстве Польском поляки не были так плотно перемешаны с русинскими крестьянами[241], которые носили рубахи навыпуск, ходили в лаптях или босиком и говорили на «хохлацком» языке — евреи называли его «греческим»[242]. Евреи и мужики в этих «владениях царя нищих» были старомодны, красочны и набожны. Расположенные вдали от железной дороги местечки стояли погруженными в прошлое, не затронутыми ходом времени. Густые леса отделяли этот край от всего остального мира.
Сначала мы тащились в буде, потом ехали поездом, потом — на подводе, и через два дня пути возвращались домой, в Ленчин. Первым нас встречал звук шойфера, в который в исполненные благочестия дни месяца элул на чем свет стоит трубили парни в бесмедреше[243].
Нам бьют окна из-за сыновней почтительности, а потом в чулках приходят просить прощения