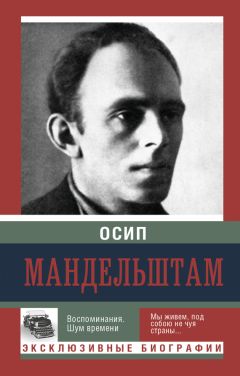Вкусная вода – Ессентуки № 17! Играет музыка, играет солнце, играют пузырьки в кружке – газируется вода в глубине земли – чуть-чуть пощипывает язык – слегка (оттого, вероятно, и хочется болтать, когда утром идешь в компании по парку и, не торопясь, глотками отпиваешь свою воду!) – вкусная вода – в ней земная прохлада и утренняя свежесть.
А днем внизу, на нижнем плоскогории, пьешь другую воду – источник № 4. Здесь – скорее радость, чем веселье. Здесь даже и в шуме – тишина. И кажется, что сюда специально льется солнце, в эти низины. Здесь замедляются шаги… Та же самая толпа вдруг радостно стихает.
Воду свою в кружках несем подогревать. Тут, рядом. В широком, мелком ящике, наполненном горячей водой, всегда уже стоит целая толпа кружек. Девушка в красном платочке (это и есть Люба) сидит на скамейке перед ящиком и градусником измеряет воду – кому сколько предписано градусов. Делает она это с полным вниманием, но флегматически – в медлительном темпе, свойственном ее наружности. Солнцем выжжены у нее ресницы. Лицо хорошо скроено, крепкие розовые губы – собственного цвета.
– Пожалуйста, измерьте, сколько в этой кружке…
– Пожалуйста, сколько в моей…
Десятки рук протянуты над кружками – каждый подвигает свою.
Она отвечает медлительно – 48… 35… 24… – ресниц не подымает, и взгляд ее переходит с кружки на кружку.
Одна за другой мелькают кружки и с кружками – люди. Целительная вода Ессентуков растекается по бесчисленным желудкам больных.
А над всем этим – горячее южное солнце и ласкающий воздух гор.
1927
Шкловский посоветовал мне написать сценарий и скрылся, мелькнув огуречной головой. Больше я его не видел, но получилось вот что: я проклял Шкловского до седьмого колена.
Я решил написать из быта пожарных. Мне сразу померещился великолепный кадр во вкусе Эйзенштейна: распахнутый гараж и машины, как гигантские ящеры, набегающие на зрителя.
Или, например, тревога, качающийся колокол, дежурный у телефона, пожарные вскакивают с коек…
А можно начать с мирной жизни: пожарные сидят на койках и читают газеты, или можно еще углубить бытовой уклон: скажем, пожарные созывают какое-нибудь совещание для выбора делегатов или борьбы с чем-нибудь. Тут же играют в шахматы… и вдруг приходит чья-то жена, жена какого-нибудь пожарного, и начинается… коллизия.
Да, коллизия, легко сказать – коллизия! Почему она приходит, чего ей нужно?
Нет, лучше подойти со стороны. Где-то в Замоскворечьи сидит за чаем семья бухгалтера и совершенно не подозревает, что вся обстановка с ореховым буфетом через полчаса сгорит, а в это время пылает на кухне примус, а возле него ребеночек.
Вся суть в композиции кадров и в монтаже. Вещи должны играть. Примус может быть монументален.
Например: примус подается большим планом. Ребенка к чорту. Все начинается с погнувшейся примусной иголки (тонкая деталь). Иглу тоже первым планом. Испуганные глаза женщины.
Впрочем, лучше начать с китайца, продающего примусные иголки у памятника Первопечатнику. Это будет обрамление. Фильма без героя – это хорошо, но все-таки должен быть какой-нибудь главный пожарный. Пусть он еще не оторвался от деревни. С одной стороны, он любит сельский инвентарь, с другой – привязан к пожарным машинам. Вот и конфликт: например, пожарный тайно ото всех, ночью прокрадывается в гараж и что-нибудь изобретает.
Вот уже ничего: как будто что-то маячит. Коллизию нужно, коллизию! За коллизию денежки платят. Коллизия – это не фунт изюма.
Пусть коллизия будет такая:
Когда-то, еще до войны, главный пожарный служил на заводе у частного капиталиста. Капиталист, в семнадцатом году, спасаясь за границу, замуровал в сейфе различные драгоценности…
Но надо столкнуть пожарного с бухгалтером. Чего они не поделили? Здесь узел всей фильмы. Ответив на этот вопрос, мы сразу сдвинемся с мертвой точки.
Одного пожарного мало, оттого что ничего не выходит, что он разветвился. Нужно его противопоставить… Но что мы знаем о нем самом? Ничего, кроме того, что он еще не оторвался от деревни, да и это не вяжется с тем, что он служил у частного капиталиста.
Хорошо: пусть один служил у частного капиталиста, а другой еще не оторвался от деревни. Но эти-то двое чего не поделили?
Пусть вещи играют отдельно, а пожарные совершенно отдельно. В вещах – пафос событий, а в людях – социальный заряд. Машины, то есть насосы и лестницы, воспитывают пожарного. Женщина тут ни при чем: ей нет места и в этой коллизии.
Кино – не литература. Надо мыслить кадрами.
Пусть главный пожарный дежурит в фойе театра, а в это время его товарищ угощает чужую жену пирожными.
Нет, это чепуха.
Тема перегорела в процессе работы. Ничего больше не маячит. Нужно поймать Шкловского.
1927
… Его голова напоминает мудрый череп младенца или философа. Это смеющаяся и мыслящая тыква.
Я представляю себе Шкловского диктующим на театральной площади. Толпа окружает его и слушает, как фонтан. Мысль бьет изо рта, из ноздрей, из ушей, прядает равнодушным и постоянным током, непрерывно обновляющаяся и равная себе. Улыбка Шкловского говорит: все пройдет, но я не иссякну, потому что мысль – проточная вода. Все переменится: на площади вырастут новые здания, но струя будет все так же прядать – изо рта, из ноздрей, из ушей.
Если хотите – в этом есть нечто непристойное. Машинистки и стенографистки особенно любят заботиться о Шкловском, относятся к нему с нежностью. Мне кажется, что, записывая его речь, они испытывают чувственное наслаждение. Фонтан для V-го века по Р. Х. был тем же, что кинематограф для нас. Замы‹сел› тот же самый. Шкловский поставлен на площади для развлечения современников, но вся его фигура исполнена брызжущей и цинической уверенностью, что он нас переживет.
Ему нужна оправа из легкого пористого туфа. Он любит, чтобы ему мешали, не понимали его и спешили по своим делам.
‹1927?
Яхонтов – молодой актер. Он учился у Мейерхольда, Станиславского и Вахтангова и нигде не привился. Это – «гадкий утенок». Он сам по себе.
Работает Яхонтов почти как фокусник: театр одного актера, человек-театр.
Всех аксессуаров у него так немного, что их можно увезти на извозчике: вешалка, какие-то два зонтика, старый клетчатый плед, замысловатые портновские ножницы, цилиндр, одинаково пригодный для Онегина и для еврейского факельщика. Но есть еще один предмет, с которым Яхонтов ни за что не расстанется, – это пространство, необходимое актеру, пространство, которое он носит с собой, словно увязанным в носовой платок портного Петровича, или вынимает его, как фокусник яйцо из цилиндра.