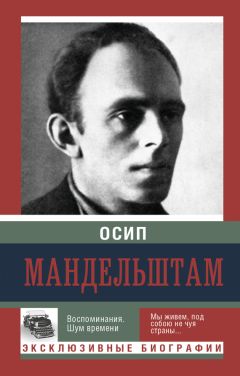Яхонтов – молодой актер. Он учился у Мейерхольда, Станиславского и Вахтангова и нигде не привился. Это – «гадкий утенок». Он сам по себе.
Работает Яхонтов почти как фокусник: театр одного актера, человек-театр.
Всех аксессуаров у него так немного, что их можно увезти на извозчике: вешалка, какие-то два зонтика, старый клетчатый плед, замысловатые портновские ножницы, цилиндр, одинаково пригодный для Онегина и для еврейского факельщика. Но есть еще один предмет, с которым Яхонтов ни за что не расстанется, – это пространство, необходимое актеру, пространство, которое он носит с собой, словно увязанным в носовой платок портного Петровича, или вынимает его, как фокусник яйцо из цилиндра.
Не случайно Яхонтов и его режиссер Владимирский облюбовали Гоголя и Достоевского, то есть таких писателей, у которых больше всего вкуса к событию, происшествию.
Игра Яхонтова, доведенная Владимирским до высокого графического совершенства, вся проникнута тревогой и ожиданием катастрофы, предчувствием события и грозы.
Наши классики – это пороховой погреб, который еще не взорвался. Чудак Евгений недаром воскрес в Яхонтове; он по-новому заблудился, очнулся и обезумел в наши дни.
На примере Яхонтова видим редкое зрелище: актер, отказавшись от декламации и отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных образцов, у великих мастеров организованной речи, чтобы дать массам графически точный и сухой рисунок, рисунок движения и узор слова.
Ничего лишнего. Только самое необходимое. По напряжению и чистоте работы Яхонтов напоминает циркача на трапеции. Это работа без «сетки». Упасть и сорваться некуда.
Чудаковатый портной Петрович кроит ножницами воздух так, что видишь обрезки материи, чиновничек в ветхой шинелишке семенит по тротуару так, что слышишь щелканье мороза, кучера у костров хлопают в рукавицы, а вдруг на тебя медведем навалится николаевский будочник с алебардой или промаячит с зонтиком ситцевая Машенька из «Белых ночей» у гранитного парапета Фонтанки.
И все это могло быть показано одним человеком, все это течет непрерывно и органически, без мелькания кино, потому что спаяно словом и держится на нем. Слово для Яхонтова – это второе пространство.
В поисках словесной основы для своих постановок Яхонтов и Владимирский вынуждены были прибегнуть к литературному монтажу, то есть искусственному соединению разнородного материала. В некоторых случаях это был монтаж эпохи («Ленин»), где впечатление грандиозности достигается соединением политических речей, отрывков из Коммунистического манифеста, газетной хроники и так далее. В других случаях монтаж Яхонтова – это стройное литературноецелое, точно воспроизводящее внутренний мир читателя, где рядом существуют, набегая друг на друга и заслоняя друг друга, различные литературные произведения. Таков «Петербург» – лучшая работа Яхонтова, сплетенная из обрывков «Шинели» Гоголя, «Белых ночей» Достоевского и «Медного всадника».
Основная тема «Петербурга» – это страх «маленьких людей» перед великим и враждебным городом. В движениях актера все время чувствуется страх пространства, стремление заслониться от набегающей пустоты.
На большой площадке Яхонтов играет в простом пиджаке, пользуясь уже указанными аксессуарами (плед, вешалка и проч.).
Показывая, как портной Петрович облачает Акакия Акакиевича в новую шинель, Яхонтов читает бальные стихи Пушкина – «Я черным соболем одел ее блистающие плечи», подчеркивая этим убожество лирической минуты. В тексте еще рукоплещет раек, но Яхонтов уже показывает гайдуков с шубами или мерзнущих кучеров, раздвигая картину до цельного театра, с площадью и морозной ночью. В каждую данную минуту он дает широко раздвинутый перспективный образ. Редкому актерскому ансамблю удается так наполнить и населить пустую сцену.
Яхонтов при своем необыкновенном чутье к рисунку прозаической фразы ведет совершенно самостоятельно партию чтеца в то время, как режиссер Владимирский зорко следит за игрой вещами, подсказывая Яхонтову рисунок игры – до такой степени четкий и математически строгий, словно он сделан углем.
Яхонтов – единственный из современных русских актеров – движется в слове, как в пространстве. Он играет «читателя».
Но Яхонтов – не чтец, не истолкователь текста. Он – живой читатель, равноправный с автором, спорящий с ним, несогласный, борющийся.
В работе Яхонтова и Владимирского есть нечто обязательное для всего русского театра. Это возвращение к слову, воскрешение его самобытной силы и гибкости.
Нужна была революция, чтобы раскрепостить слово в театре. И все же ее оказалось мало… Яхонтов – один из актеров будущего, и работа его должна быть показана широким массам.
1927
Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту… Подобно многим другим, чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она пока не нуждается.
Вопрос о том, каким должен быть писатель, – для меня совершенно непонятен: ответить на него то же самое, что выдумать писателя, а это равносильно тому, чтобы написать за него его произведения.
Кроме того, я глубоко убежден, что при всей зависимости и обусловленности писателя соотношением общественных сил, современная наука не обладает никакими средствами, чтобы вызвать появление тех или иных желательных писателей. При зачаточном состоянии евгеники, всякого рода культурные скрещивания и прививки могут дать самые неожиданные результаты. Скорее возможна заготовка читателей; для этого есть прямое средство: школа.
1928
Путешествие в Армению. Севан
На острове Севане, который отличается двумя достойнейшими архитектурными памятниками VII века, а также землянками недавно вымерших вшивых отшельников, густо заросшими крапивой и чертополохом и не более страшными, чем запущенные дачные погреба, я прожил месяц, наслаждаясь стоянием озерной воды на высоте четырех тысяч футов и приучая себя к созерцанию двух-трех десятков гробниц, разбросанных на манер цветника посреди омоложенных ремонтом монастырских общежитий.
Ежедневно, ровно в пятом часу, озеро, изобилующее форелями, закипало, словно в него была подброшена большая щепотка соды. Это был в полном смысле слова месмерический сеанс изменения погоды, как будто медиум напускал на дотоле спокойную известковую воду сначала дурашливую зыбь, потом птичье кипение и, наконец, буйную ладожскую дурь.