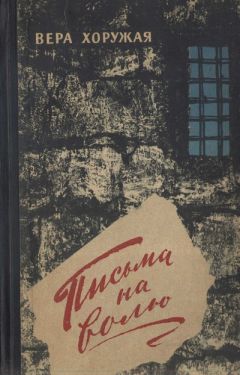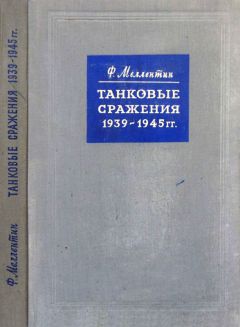2 декабря 1929 г.
Товарищу М. Златогорову.
Решила написать тебе спокойное письмо. Но разве это возможно? О нет! Как подумаю обо всех вас, как вспомню твое последнее письмо, спокойствие бесследно исчезает, а изо всех уголков души рвется бурный восторг. С трудом удается выбрать из всего вороха дум и чувств то, о чем хочется тебе рассказать в первую очередь.
Ну хорошо, прежде всего о социалистическом соревновании. Как жаль, что ты не был среди нас в тот момент, когда мы читали твое письмо, что ты не видел, какое впечатление произвело оно на всю нашу коммуну! Слушая рассказ об ударных бригадах, девушки буквально окаменели. Только через несколько минут обрели они снова дар речи, начали разговаривать, радоваться, удивляться, восторгаться. Трудно было себе представить, что весь тот героизм и энтузиазм, которые являлись самыми характерными чертами эпохи гражданской войны, вошли ныне в быт, стали повседневным явлением. Мы слышали о соревновании, я с особой радостью узнала, что идея его рождена комсомолом, понимала, что оно должно сыграть огромную роль в деле осуществления лозунга «догнать и перегнать», но… насколько же шире, могучее, интереснее это в жизни, чем в наших представлениях!
Знаешь ли ты, как дорога мне каждая ниточка, которая связывает меня с живой жизнью? Не могу тебе больше писать, как и осуществлять другие свои желания. У нас также, хоть и на свой лад, напряженные прекрасные будни. Не хватает суток. Но ничего не значит, что прошла неделя, месяц. Нет! Это ведь значит на неделю, месяц ближе к воле…
11 декабря 1929 г.
Ему же.
…Живые факты вашей действительности способны захватить друзей, смутить врагов. И одни и другие делают свои выводы. А я вот вчера вместе со своей соседкой по камере вспоминала о живых фактах нашей действительности — о некоторых товарищах, осужденных по уголовным статьям кодекса законов. Один из них — пожизненно. Вот где нужна сталь и моральная сила, чтобы в безмерно тяжелых условиях не сломаться, сохранить свое лицо! Подумай — жить среди бандитов и воришек, без газет и книг, без бесед с товарищами, за бессодержательной каторжной работой, под «ласковой опекой», удваиваемой или утраиваемой после каждого шага, сделанного не по регламенту…
Таких много. Вот и сейчас вспомнила еще пять-шесть пожизненно осужденных. Вечная тюрьма? Конечно, не вечная, но все же невыносимо тяжелая. А все же выносят! Сохраняют и бодрость и веру в «завтра». Выковываются люди.
Много не напишешь на этих редких листочках, надо рассказывать, много рассказывать такого, что должно быть широко известно. Вот, когда встретимся, заберемся куда-нибудь, и будет беседа бесконечная, захватывающе интересная. А тогда берись за перо и пиши, рассказывай свободной советской молодежи о том, «как пахнет жизнь» у ее товарищей, близких соседей.
14 декабря 1929 г.
Товарищу С.
…А мы теперь живем особенно интенсивно. Никогда у нас в стенах тюрьмы не было тихо, но теперь особенное настроение. Отовсюду такие хорошие вести! Конечно, немало и плохих, но они как-то стираются, уходят на второй план, а тон задают именно радостные. Если бы ты знал, с каким нетерпением мы ждали подтверждения своего вывода о наступлении. Вторичного, во сто раз более сильного и решающего. Дождались и торжествуем. Хочется еще подтолкнуть вперед, сильнее накалить, ярче выразить. Но… сиди и «не рыпайся». Что же, посидим еще. А все-таки чудесное «скорей» не только живет, но и мчится вперед. Вспоминается Маяковский: «Мы идем! Не идем, а летим! Не летим, а молньимся!» Одним словом — хорошо, чудно хорошо!!! Обо всем хочется спросить: и о Китае, и об урожае, и о коллективизации, и о тысяче других вещей. Но напишешь ли? Не найдет ли опять на тебя «молчанка» на несколько месяцев? Ой, только не это! Прошу тебя очень, очень. Сегодня столько тебе надавала поручений, столько поставила неотложных вопросов, что, боюсь, придется тебе потратить немало времени на все это. Но знаю, что все это сделаешь, исполнишь. Ну, пусть бы сейчас можно было тебя увидеть! Вижу тебя, твои движения, улыбку, слышу твой голос, но все это не то. Настоящее! Пусть оно будет! Представляешь ли себе его ясно? Нет, все представления бледны и бескровны. Ты увидишь! Мы увидим, мы будем пламенеть радостью, мы, счастливые, будем громко смеяться…
16 декабря 1929 г.
Подруге В. Хмелевской.
Вчера совсем неожиданно получила твое праздничное письмо. Вот спасибо! Такую радость принесло оно мне… А от вести, что хочешь переслать мне какой-то подарок от деревенских коммунарок, я широко раскрыла глаза и вся захлебнулась от счастья. Что ты говоришь? Они знают обо мне? Они думают обо мне и шлют привет? О, стою ли я этого?! Как же поблагодарить их, как выразить свою глубокую радость? Знай, что это, может быть, самая большая радость, какая только бывает в тюрьме.
Вчера получила из тюремной цензуры присланную тобой книжку о колхозах. Это так прекрасно, так ново, что слушаешь и читаешь, как сказку. Книжкой сразу завладели З. и М., так что я только и видела. Читают, увлекаются, а на прогулках рассказывают мне отдельные места. В конце книжки я увидела список вновь вышедшей литературы. О, как мне захотелось сразу прочесть все, все. Одна интереснее другой кажется… Пришли, пожалуйста, также, прошу, хорошую книжку о Китае… А то этот вопрос представляет собой для нас на самом деле «китайскую грамоту».
…Хочешь знать о нашем житье-бытье? Да, мы сидим в одиночках, лишь некоторые — по двое в камере. Я не переношу одиночества и поэтому всегда стараюсь сидеть еще вместе с кем-либо.
…Теперь вечер. Кругом тишина, только изредка на весь коридор кашляет Л., да слышно, как ходит по своей камере Г. Она через каких-либо восемь месяцев выходит на свободу и поэтому часто расхаживает и думает, как будет жить на воле. Порой зазвенят ключи, послышатся шаги надзирательницы. Кончается день, он никогда больше не повторится. Мы еще на день ближе к воле.
…Вспомнила концерт, о котором ты писала. Надо было бы тебе видеть, как бросаемся мы к окнам, когда услышим на улице «катернику»[62]. Но мы будем еще вместе слушать прекрасную музыку жизни…
24 декабря 1929 г.
Всем родным.
…Очень часто рисую себе картину нашей встречи. Что это будет за счастье долгожданное! А время неуклонно идет. Вот уже 1930 год. Осенью этого года будет уже пять лет, как я в тюрьме, значит, останется еще только четыре. А кто знает, может, и не придется мне уже их отсиживать. Ведь обо мне да и о моих товарищах-заключенных на свободе не забыли.
Спрашиваете о моем «мятежном сердечке»? Ничего — выдержу, еще как выдержу. И не подвести постараюсь.