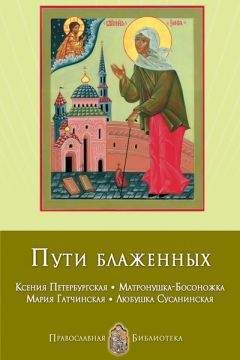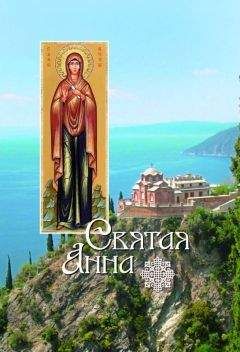— А если я вас о том попрошу, неужели вы мне откажете? Я вас очень прошу: сходите к ней. Уверяю вас, бояться вам нечего.
Решили на том, что я пойду к блаженной на следующий день перед исповедью. Утром мы пошли с моим спутником к обедне. Перед тем как идти в церковь, я сказал послушнице при гостинице:
— Сестрица, сходите в келью к блаженной и узнайте, в духе ли она сегодня. Я слышал, что когда она не в духе, то лучше к ней и на глаза не показываться[6]: побьет и самого губернатора.
К концу службы послушница доложила:
— Блаженная сегодня в духе, пожалуйте.
— Хорошо, — говорю я, — як ней пойду, только не сейчас. Поставьте мне самовар: промочу горло чайком, а тогда и пойду.
Напились мы чаю, пора было идти к блаженной. А на сердце непокойно, жутко. Говорю своему спутнику:
— Пойдемте вместе. Все не так страшно будет!
— Ну уж увольте! Я сейчас нахожусь под таким светлым и святым впечатлением от всего переживаемого в Дивееве, что нарушать его и портить от соприкосновения, простите меня, с юродивой грязью, а может быть бранью, нет охоты: не моей это меры…
Пришлось идти одному. Иду я к блаженной и думаю: надо будет там дать что-то — дам золотой. Тут же я вынул из кармана кошелек и переложил из него пятирублевый золотой в жилетный карман. В сенцах меня встречает келейная блаженной, монахиня Серафима, говорит: «Пожалуйте!»
Направо от входа комната, вся увешанная иконами. Кто-то читает акафист, молящиеся поют припев. Сильно пахнет ладаном, тающим от горящих свеч воском. Прямо от выхода коридорчик, и в конце его открытая дверь. Туда и повела меня Серафима: «Маменька там». Не успел я переступить порога, как слева от меня из-за двери с полу что-то седое, косматое и — показалось мне — страшное как вскочет, да как помчится мимо меня бурею к выходу со словами:
— Меня за пятак не купишь. Ты бы лучше пошел да чаем горло промочил.
То была блаженная. Я был уничтожен. Как я боялся, так оно и вышло: дело для меня без скандала не обошлось. Признаюсь, нехорошее тогда зашевелилось во мне чувство…»
Так описал Нилус свою первую встречу с Пашей Саровской, заметив, что блаженная высказала все тайные мысли. Игуменья, выслушав все, благословила его все же еще раз побывать у нее. Укрепил в том Нилуса и его духовник, священник Дивеевского монастыря, который рассказал, как поначалу совсем не доверял Паше, потому что «имел счастье быть очевидцем святого жития и подвигов предшественницы ее, Пелагеи Ивановны Серебренниковой, получившей благословление на подвиг юродства от самого великого Саровского старца, отца Серафима: та была истинная юродивая, обладавшая высшими дарами Духа Святого — прозорливица и чудотворица. И когда по кончине ее явилась к нам в Дивеево на смену ее Параскева Ивановна, то я, попросту говоря, невзлюбил ее, считая недостойной занять место ее великой предшественницы».
Но вскоре случилось нечто, что в корне изменило отношение священника к новой юродивой. Однажды она своими иносказаниями предсказала пожар. Паша подошла к деревянному дому батюшки и на его глазах стала втыкать засохшие ярко-красные цветки комнатных кактусов в щели бревен.
«Наступил вечер, — рассказал священник Нилусу, — мы поужинали, семейные мои стали укладываться спать. А мне все не спится, боюсь и раздеваться: все мерещатся мне цветы кактуса, огнем выбивающиеся из бревен. Все давно заснули, а я взялся, чтобы забыться, за книгу. Было за полночь. Вдруг двор наш осветился ярким пламенем — внезапно вспыхнули сухие, как порох, соседние строения, и огонь мгновенно перекинулся на наши священнические дома. Засни я вместе с прочими, сгореть бы нам всём заживо — едва-едва успели выскочить в одном нижнем белье, а все имущество наше сгорело дотла вместе с домом, ничего не успели вытащить. И вот, с памятной той ночи, понял я, что такое Параскева Ивановна, и стал на нее смотреть, как на законную и достойную преемницу Пелагеи Ивановны».
Второй раз Нилус был у Паши вместе со священником. «Пока жив, никогда не забуду я того взгляда, которым окинула меня блаженная; истинно небо со всей его небесной красотой и лаской отразилось в этом взгляде чудных голубых очей Дивеевской прозорливицы. Сказала с улыбкой (и что это была за улыбка!):
— А рубашка-то у тебя ноне чистенька!
— Это значит, — шепнул мне в пояснение священник, — что душа ваша сегодня очищена таинствами покаяния и причащения.
Я и сам это так понял (действительно, утром я исповедовался и причастился). Достал из кармана кошелек и говорю блаженной:
— Помолись за меня, Маменька: очень я был болен и до сих пор не поправился, да и жизнь моя тяжела — грехов много.
Блаженная ничего не ответила. Подаю ей золотой пятирублевый. Она взяла, забыв, что «меня за пятак не купишь».
— Давай еще, — говорит.
Я дал. Она взяла кошелек из моих рук и вынула из него, сколько хотела, почти все — рублей тридцать — сорок. Кошелек с оставшейся мелочью отдала мне обратно. Спрятав мои деньги в божницу, блаженная пошла за перегородку, где виднелась ее кровать, пошел и я за ней. На кровати лежали куклы. Одну из них блаженная взяла, как ребенка, а правой рукой потащила меня за борт верхней моей одежды, усаживая рядом с собой на пол, да и говорит:
— Ты что же, богатое-то на себе носишь?
— Я и сам богатого не люблю, — отвечаю.
— Ну ничего, — продолжала она, — через годок все равно зипун переменишь.
И подумалось мне: и деньги из кошелька забрала в жертву Богу, и перемену «зипуна» предсказывает, и на пол с собою сажает — смиряет: не миновать, видимо, мне перемены в моей жизни с богатой на бедную… Как бы хотелось, чтобы не так было.
Рядом с нами на полу оказался желтый венский стул. Ободок его под сиденьем был покрыт тонким слоем пыли. Блаженная стала смахивать пыль рукой и говорит мне в глаза:
— А касимовскую-то пыльцу стереть надобно.
И что тут с моим сердцем сотворилось! Ведь как раз под городом Касимовом, лет без малого двадцать перед тем назад, я совершил великий грех, нанес кровную обиду близкому мне человеку, грех, не омытый покаянием, не покрытый нравственным удовлетворением обиженного, не заглаженный его прощением. За давностью я забыл его, и вдруг грех этот восстал передо мной во всей своей удручающей совесть неприглядной яркости. А блаженная продолжала:
— У кого один венец, а у тебя восемь. Ведь ты повар. Повар ведь? Так паси же людей, коли ты повар…
С этими словами она встала с полу, положила куклу на постель, а я, потрясенный «касимовской пыльцой», вне себя вышел от блаженной…» Добавим, что Нилус из поездки в Дивеево после встречи с блаженной вернулся совершенно здоровым.