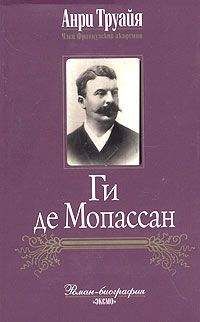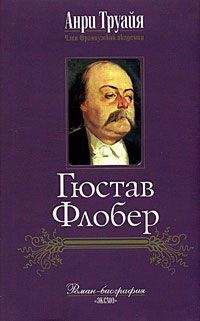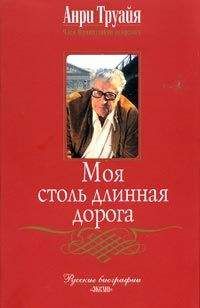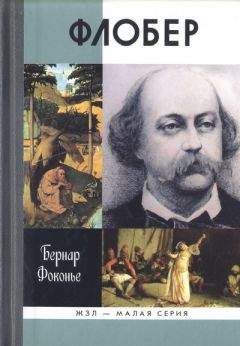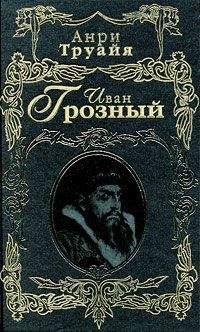С этими «говорящими куклами» Ги держится по большей части молчаливо, натянуто и без доверия. Ему недостает мысли на каждую остроту отвечать остротой. И он постоянно испытывает боязнь, как бы над ним не стали смеяться. «Рассматривая его вблизи, я нахожу, что он очень похож на своих крестьян, – замечает Жорж де Порто-Риш. – Он мне кажется, подобно им, разом мизантропом – и балагуром, терпеливым – и себе на уме, мечтательным, вопреки самому себе, – и распутным…» И далее: «Постоянная забота Ги де Мопассана – как бы не оказаться одураченным… Он ходит с револьвером наготове… Женщины доискиваются его, льстят ему… Все же у Ги де Мопассана не защемит сердце. Иные эмоции не в его власти; он немощен с точки зрения морали». Тэн называет Мопассана «печальным быком». А Гонкур видит в нем «образ и тип молодого нормандского барышника (maquignon)». Разочаровавшись в светских женщинах, он столь же разочаровывается и в собратьях по перу. Писательские попойки его более не забавляют. Он зевает у Золя, у Гонкуров, в ресторане, в кафе; даже работа порою кажется ему никчемной. «Две трети своего времени провожу, скучая безмерно, – пишет он Марии Башкирцевой в апреле 1884 года. – Последнюю треть заполняю тем, что пишу строки, которые продаю возможно дороже, приходя в то же время в отчаяние от необходимости заниматься этим ужасным ремеслом… Я не способен любить по-настоящему свое искусство… Я не могу заставить себя не презирать мысль, поскольку она ничтожна, и форму, поскольку она несовершенна». И признается: «Я – промышленник от словесности» (Je suis un industriel des lettres).
Чтобы освежить впечатления и обновить мысли, Ги решает сменить квартиру и обосноваться по адресу: рю Моншанен, 10, на первом этаже особняка, построенного его кузеном Луи ле Пуатевеном. Но работы по обустройству затянулись. Ги отправляется на Лазурный берег. Но нигде не может отдохнуть душою. Согласившись написать предисловие к переписке Флобера и Жорж Санд, он задает себе вопрос, стоит ли патронировать эту нескромную корреспонденцию. Зато с пиететом готовит к изданию Полное собрание сочинений Флобера у издателя Кантена. Склонившись над объемистой папкой с примечаниями к «Бувару и Пекюше», он придирчиво разбирал их слово за словом, не позволяя себе ни малейшей критики. «Там у него было все, – расскажет Анри Ружон. – Остроты, каламбуры, проблески мысли, пошлости, шалости, даже раздумья… Это было нечто импозантное и вместе с тем ребяческое. Мопассан бывал растроган при виде таких заголовков, как „Ахинея государственных мужей“, сопровождавших компактные досье. Он смеялся в голос над листком почтовой бумаги, синего цвета в клеточку, предназначенной для крестьянских писем, на которой Флобер записал своим четким изящным почерком следующее замечание: „Вещи, которые отупляют меня: железные перья, непромокаемые плащи, Абд-эль-Кадер“. Мопассан невероятно высоко ценил этот автограф».[55]
Пребывая в Каннах, он нечаянно устроил пожар в своем номере. В огне погиб экземпляр сборника стихов с важными правками, приготовленный к переизданию. Не знак ли судьбы? Поэзия для него осталась в прошлом. «Довольно рифм», – решил он. Отныне он посвящает себя только прозе. Он рожден для того, чтобы сделать своей темой повседневность, грубую правду, мужское отчаяние. Кстати сказать, у него в портфеле уже лежал новый, практически готовый роман. «Вы спрашиваете, какие у меня новости? – пишет он издателю Виктору Авару. – Они не блестящи. Глаза мои с каждым днем все хуже и хуже. Это происходит, я думаю, потому, что я в высшей степени переутомил их работой… Я завершил „Милого друга“. Остается только перечитать и нанести последние штрихи на две последних главы. Через шесть дней работа будет полностью завершена» (письмо от 21 февраля 1885 г.).
В Каннах Мопассан наслаждается ласковым климатом и с опустошительной иронией судит окружающее его высшее общество. Во всех этих элегантных и самодовольных фигурах он видит потенциальных героев романа. И в самом деле, вскоре его снова посещает вдохновение; если прежде источником его была сельская и буржуазная жизнь, то теперь писатель присматривается к обществу, привилегированному по рождению и состоянию. Где найдешь лучшее место для наблюдения, нежели этот модный курорт, привлекающий сливки аристократии и финансовых воротил? «Ги де Мопассан признался мне, что Канны для него – целый муравейник для завязывания отношений (une fourmilière des renseigne– ments) – замечает Эдмон де Гонкур. (Дневник, 24 декабря 1884 г.) – Тут зимуют и семейство Люинь, и княгиня де Саган, и семья герцогов Орлеанских; тут с куда большей легкостью достигается близость отношений (l’intimité), здесь люди открывают душу куда скорее и куда легче, нежели в Париже. И он вполне справедливо и умно дал мне понять, что именно здесь он находит типажи мужчин и женщин для романов, которые хочет сочинить о свете, о парижском обществе и его любовных затеях».
В эту среду распутства, праздности и самодовольства Мопассан втерся, точно шпион. Он любезничает с гранд-дамами, которые относятся к нему со снисхождением, и в душе клянется отомстить им, выведя на страницах разоблачительной книги. Он жаждал бы затащить их всех к себе в постель, чтобы поизгаляться над ними, – и вместе с тем ему до смешного льстило, когда какая-нибудь из них оказывала ему милость, удостаивая комплиментом. Он, привыкший к девушкам из народа и putains, порою испытывал стремление шокировать этих образчиков высокопоставленности каким-нибудь вульгарным фарсом. Как-то раз графиня Потоцкая прислала ему шутки ради шесть напарфюмированных кукол. Он же послал ей их обратно, набив животы тряпками, давая понять, что обрюхатил их в рекордный срок. К посылке прилагалась собственноручно написанная им записка: «ВСЕХ ЗА ОДНУ НОЧЬ». Потом забеспокоился, не допустил ли перегиб; но бойкую графиню так легко не шокируешь. Ободрившись, он пишет графине: «Спасибо, что не вызвали меня для объяснений по поводу кукол. Я и так сокрушаюсь». В том же письме он сетует на высшее общество, в котором вращается: «Что я делаю? Скучаю. Скучаю беспрерывно. Все досаждает мне: и люди, которых я вижу, и однообразные события, следующие чередою. В обществе, которое называется элегантным, мало мысли, мало ума, мало чего бы то ни было. Звучного имени и звонкой монеты недостаточно. Этот народец производит впечатление отвратительной живописи в блестящем обрамлении… Когда приглядываешься к всеобщему избирательному праву и людям, которых оно нам дает, руки чешутся расстрелять народ картечью да отправить на гильотину его представителей. Но когда присматриваешься к вельможам, которые могли бы нами управлять, то становишься попросту анархистом… О! Я никогда не стану придворным. Знаете ли, какое странное чувство вызывают во мне пэры? Чувство безмерной гордости, дотоле мне совершенно неведомое. Мне кажется, что я – Принц и разговариваю с совсем маленькими детьми, которые еще ничему не учились, кроме Священной истории».