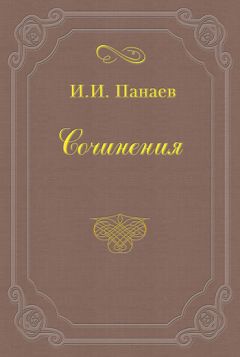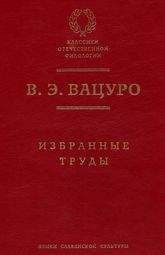Я хотел отправиться отыскивать Кольцова, но в одно утро, очень скоро после своего приезда, он явился ко мне сам.
Портрет Кольцова, приложенный к его сочинениям, очень верно передает его черты; художник не умел только схватить тонкого и умного выражения глаз его. Кольцов был небольшого роста и казался довольно крепкого сложения. Одет он был даже с некоторою претензиею на щегольство: на манишке его сверкали пуговицы с камешками, сверх жилета красовалась цепь от часов, он был напомажен и даже раздушон. Впоследствии за эти духи ему жестоко доставалось от Белинского. «Охота вам прыскаться и душиться какою-то гадостию, – говорил он, – от вас каким-то бергамотом или гвоздичкой пахнет. Это нехорошо. Если мне не верите, спросите у него (и Белинский указывал на меня): он франт, он уж, батюшка, авторитет в этом деле».
Разговор мой с Кольцовым начался прямо с Белинского. Он привез мне поклон от него. Кольцов, человек проницательный и осторожный, умевший, как я узнал впоследствии, сдерживать себя и таивший перед петербургскими литераторами свои убеждения, заметив мой энтузиазм к Белинскому, заговорил со мною довольно откровенно.
– Да-с, Иван Иваныч, Белинский единственный человек у нас в настоящее время, владеющий эстетическим вкусом и понимающий искусство. Его немногие ценят, особенно из ваших петербургских литераторов, – это очень жаль-с… И какой светлый ум у этого человека! Какое горячее, благородное сердце! Я обязан всем ему; он меня поставил на настоящую мою дорогу; без его советов я не решаюсь теперь печатать моих мараний: он мне говорит всегда, что нужно выкинуть, что исправить, что вовсе бросить. Уж он так добр ко мне, такое участие принимает во мне!
Кольцов рассказал мне некоторые подробности о жизни Белинского. Он был в восторге от московского кружка Белинского и говорил:
– Приезжайте в Москву-с. Вы увидите, там люди больше по вас, и Белинский будет очень рад вам. Он заочно полюбил вас.
До знакомства моего с Белинским Кольцов приезжал раза два или три в Петербург и в один из приездов привез мне первое письмо от Белинского.
Кольцов считал долгом делать визиты ко всем литераторам, из которых многие посматривали на него с высоты своего величия, с покровительством, как на талантливого мужичка.
Но этот мужичок, усвоивший уже себе кое-какие из убеждений и взглядов московского кружка Белинского и прочитавший все пьесы Шекспира в русском переводе (Шекспир произвел на него глубокое впечатление; он говорил о нем с энтузиазмом, особенно о «Гамлете», которого, по его словам, объяснил ему еще более Мочалов на сцене), этот необразованный мужичок понимал гораздо более и смотрел на литературу гораздо глубже многих из так называемых образованных литераторов – своих покровителей. С каждым приездом своим он становился со мною откровеннее. Он передавал мне впечатления, которые производили на него разные петербургские литераторы и литературные знаменитости, и характеризовал каждого из них. Эти характеристики были исполнены ума, тонкости и наблюдательности; я был поражен, выслушивая их.
– Эти господа, – прибавил Кольцов в заключение с лукавою улыбкою, – несмотря на их внимательность ко мне и ласки, за которые я им очень благодарен, смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мной своими знаньями, хотят мне пускать пыль в глаза. Я слушаю их разиня рот, и они остаются мною очень довольны, а между тем я ведь их вижу насквозь-с.
– Ну, Алексей Васильич, – сказал я ему, – ведь и я, грешный человек, посматривал на вас тоже немножко свысока. Простите меня.
Кольцов улыбнулся.
– Да ведь на меня, Иван Иваныч, – возразил он, – человека необразованного, иначе и не могут смотреть образованные люди, – я это очень хорошо понимаю; но вы ведь меня не принимаете за дурачка, а они на меня совсем как на дурачка смотрят, вот хоть бы Евгений Павлыч Гребенка… а ведь я не глупее же его. Впрочем, я это так только заметил: все здешние литераторы и Евгений Павлыч – люди очень добрые и почтенные… Вот хоть бы князь Одоевский, он такой приветливый, уж он так меня обласкал, а впрочем московский кружок – то есть я разумею именно кружок Белинского – все-таки нельзя сравнить с здешними: вот вы поедете в Москву, сами убедитесь в этом… Я, откровенно вам скажу, только и отдыхаю там от разных своих забот и неприятностей… К тому же у этих людей есть чему поучиться.
Почти всякий свой приезд в Петербург Кольцов созывал к себе литераторов на угощение и между прочим потчевал их какой-то соленой рыбой, которую он привозил из Воронежа.
Но я узнал еще ближе Кольцова впоследствии, когда переехал в Петербург Белинский.
Запрещение «Телескопа». – «Библиотека дня чтения». Сенковский и гении, им созданные. – Возвращение больного Надеждина из Усть-Сысольска. – Мое сближение с ним. – Надеждин как собеседник. – Ответ Надеждина на вопрос: почему теперь нет хороших стихов? – Отношения Надеждина к разным издателям. – Два слова о Н. И. Грече. – Гоголь у Прокоповича. – Башуцкий и его вечера. – Приготовления к изданию «Отечественных записок». – Разговор мой с г. Краевским по этому поводу. – Объявление об издании «Отечественных записок».
Причина внезапного конца «Телескопа», который начинал приобретать еще более значения с появления в нем Белинского, известна всем. Прекращение этого журнала наделало большого шуму, возбудило различные толки и заставило прочесть статью Чаадаева – виновницу прекращения – даже тех, которые отроду не читали таких серьезных статей. Того нумера «Телескопа», в котором она появилась, скоро достать уже было невозможно: его расхватали, и статья Чаадаева стала расходиться во множестве рукописных экземпляров. Кажется, все строгие запретительные меры относительно литературы никогда не действовали во вред ей. Запрещение журнала всегда возбуждало в публике сочувствие и участие к журналисту, подвергшемуся опале; а статья, вследствие которой запрещался журнал, приобретала популярность не только между всеми грамотными и читающими людьми, но даже и между полуграмотными, которые придавали ей бог знает какие невежественные толкования. «Телескоп» недолго пережил «Телеграф». Издатель «Телескопа» возбуждал большой энтузиазм между московскою университетскою молодежью своими лекциями. Об его удивительном даре слова и многообразных сведениях доходили слухи и до Петербурга; но его критические статьи в «Телескопе» под псевдонимом Надоумки, несмотря на много дельного, высказавшегося в них, не нравились в Петербурге по своему тону, отзывавшемуся несколько бурсою.