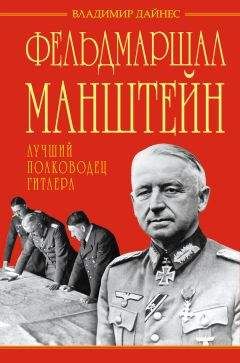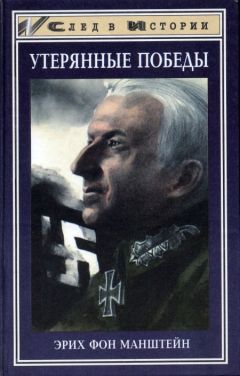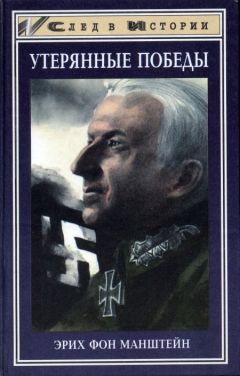На рассвете после этого разговора он, не открывая глаз, снова мысленно встал на край воронки и почувствовал, что она ждала его, так как для него там еще оставалось место. Он вспомнил одного из погибших, брошенного на спину с запрокинутой головой. Глаза его были открыты, и Фиме сначала показалось, что мертвый солдат смотрит на него. Но потом он понял, что взгляд покойного был устремлен в синее небо, где он, вероятно, пытался рассмотреть Того, Кто скажет каждому из еще живых: «Что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне из земли?» Фима думал о том, что таких «могил» на землях, где прошла война, остались многие тысячи, и никто и никогда ничего не узнает о тех, кто в них лежит, для кого эта воронка или яма стала краем их земного существования.
Через некоторое время Фиминому корпусу удалось закрепиться на плацдарме и расширить его для приема основных сил для будущей наступательной операции, а немцы перенесли свою линию обороны. Наступили более менее спокойные дни, и снова дали о себе знать вечные для советского солдата проблемы. Фимина рота стояла на опушке леса у большого молдавского села Шерпены. Фима, пользуясь передышкой и имея несколько часов свободного времени, отпросился у старшины и отправился в это село поискать какой-нибудь не казенной еды. Он не спеша прошелся по главной улице села, застроенной совсем не хатами, а добротными домами под железными крышами. В первом же доме, куда он обратился, его угостили вином, для чего пришлось спуститься в каменный подвал, где на каменном же постаменте покоилась огромная бочка с краном. Когда он удивился, ему сказали, что такая же бочка со своим вином есть почти у каждого крестьянина в Молдавии. Но ничего такого, что можно было бы взять с собой, в доме не было, и Фима пошел дальше. Его внимание привлекли несколько рядом стоящих необитаемых по виду домов. Их довольно большие окна зияли пустотой. Фима решил заглянуть в один из этих домов.
Поднявшись на невысокое крыльцо, он обратил внимание на то, что на косяке у входной двери была прикреплена продолговатая коробочка. Что-то знакомое было в ней, и тут откуда-то из глубин подсознания, из далекого добровеличковского прошлого — память о нем уже давно была заслонена последующими событиями — всплыло забытое слово «мезуза». Это там, в Добровеличковке, на дверях домов набожных евреев как охранный амулет, как подкова в украинских домах были прибиты эти коробочки с клочком пергамента, содержащим слова из Торы.
«И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих», — сказал Господь. Здесь эти дома были пусты. Фима задумался: «Почему?» Он тогда еще не мог себе полностью представить масштабы трагедии, не знал ни об Освенциме, ни о Бабьем яре, не знал самого слова «Холокост», и, стоя на крыльце, он погладил рукой мезузу и подумал, что хозяина этого дома и его семью она не уберегла. Как и хозяев соседних пустующих домов, где еще совсем недавно шла жизнь, звенел детский смех.
Очнувшись от этих грустных мыслей, Фима заметил, что за ним наблюдает пожилая женщина, стоявшая на пороге дома, находившегося на противоположной стороне улицы. Она тоже заметила, что Фима возвратился из своего путешествия в прошлое в реальный мир, и окликнула его. Фима подошел и, вспомнив о цели своих странствий по этому селу, завел разговор о продуктах. Женщина довольно хорошо говорила по-русски, и разговор с ней затруднений не вызывал. Выяснилось, что продуктов долгосрочного хранения, пригодных для того, чтобы взять их в рейд, у нее тоже нет, но есть молоко, и услышав это слово, Фима проглотил слюну, представив себе, как он пьет этот божественный напиток. Для обмена у него с собой была лишь махорка, но солдатское курево женщину не заинтересовало.
— Табак у нас там, — сказала она и махнула рукой в сторону огорода за ее домом.
Договорились, что в обмен на молоко Фима принесет ей нижнюю сорочку, находившуюся у него в расположении части. Фима хотел немедленно побежать за сорочкой, но женщина остановила его:
— Ты еврей? — спросила она.
— Да, — ответил Фима.
— Так бери молоко сейчас, а сорочку занесешь потом.
И она налила ему котелок молока «с верхом» так, что ему пришлось тут же немного отпить, чтобы не расплескать. И опять-таки чтобы не расплескать драгоценную влагу, Фима не спеша пошел к своему временному лагерю. Медленное движение располагало к размышлениям. «Как могла эта деревенская женщина так с ходу распознать во мне еврея, если моим однополчанам, людям бывалым, многое повидавшим в жизни, мне приходилось доказывать, что я — еврей?» — удивлялся Фима. Потом он подумал о доме без хозяина, на пороге которого он только что стоял. «Вероятно, евреи, жившие в этих опустевших домах, были хорошими людьми и оставили по себе хорошую память, иначе разве дала бы эта женщина молоко в долг совершенно незнакомому солдату-еврею», — размышлял Фима. Погруженный в свои мысли, он незаметно вышел на околицу села и вдруг увидел какую-то суету на опушке леса, где располагалась его часть, услышал шум моторов «студебеккеров». Вокруг машин метушились солдаты, занятые погрузкой ротного инвентаря. Фиму охватил ужас от мысли, что вот сейчас они уедут, и он не отдаст долг женщине, поверившей ему как еврею. Он сунул кому-то из своих солдат злополучный котелок с молоком, схватил сорочку и помчался в село. Влетел в дом, сунул в руки оторопевшей женщине сорочку, промычал «спасибо» и бегом в часть. Успел к тому моменту, когда «студебеккеры» уже выруливали на дорогу, и на ходу залез в кузов машины, где уже были его ребята, чуть-чуть не став дезертиром. Котелок, конечно, уже был пуст, но Фима был доволен тем, что не обманул доверия молдавской крестьянки и, таким образом, защитил достоинство своей нации. Впервые в его жизни такая, в общем, обычная ситуация приобрела для него столь принципиальное значение, и он гордился тем, что сумел не подчиниться, казалось бы, непреодолимым обстоятельствам и поступить так, как этого требовали его совесть и его представления о честности и чести.
На календаре значилось: 21 августа 1944 года, и именно в этот день Фимина рота прямо с этой опушки отправилась в глубокий рейд, скорее — в прорыв: шел второй день Ясско-Кишиневской наступательной операции. К исходу этого дня седьмой корпус продвинулся километров на тридцать в глубину обороны немцев, но в конце рейда натолкнулись на очень жесткое сопротивление шестой немецкой армии. В атаку на немецкие окопы пошли почти все двести танков корпуса. До сих пор, когда Фиме приходилось участвовать в танковой атаке, пехоту гнали по советской военной традиции, о которой уже говорилось, впереди танков, и взводный всегда инструктировал бойцов перед такой атакой: «Смотрите под ноги, ребята, не наступайте на мины!» Но где там уж было смотреть под ноги. Бог пока миловал. Теперь же, впервые в Фиминой военной карьере, пехоту и в том числе его отделение посадили на танки, и они на предельной скорости помчались в сторону немецких позиций. При их приближении немцы открыли огонь из пулеметов и автоматов. Никакого ущерба танкам этот шквал огня не наносил: пули отскакивали от брони, как горох, но еще живым людям, сидящим на этой непробиваемой броне, оторванным от спасительницы-земли, спрятаться было негде. Они превратились в живые мишени. На глазах у Фимы с соседних танков посыпались раненые и убитые солдаты. Некоторые из них оказывались под гусеницами своих же танков. Фиме и на этот раз повезло.