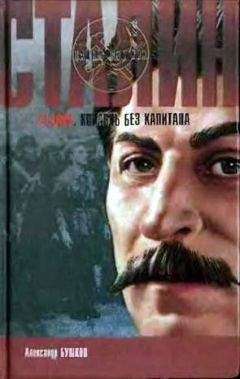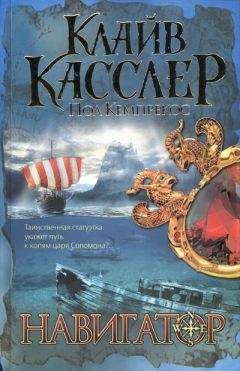Поляки, разумеется, пару раз поднимались на бунты – уже в течение девятнадцатого столетия. Не какой-то злой колонизатор, а идеолог польского Просвещения, философ, историк и писатель Гуго Коллонтай (чистокровнейший литвин, пся крев!) говорил не без иронии: «Воевать поляки не умеют. Но бунтовать!»
С бунтами, правда, царское правительство справилось особо циничным образом. Оба раза, и в 1831-м, и в 1863-м. Соль в том, что основную ударную силу составляла опять-таки благородная шляхта. Так вот, зловредные москали просто-напросто наделили крестьян панской землей и вывели из крепостного состояния – после чего «хлопы» (не только украинские и белорусские, но и польские) принялись мятежников ловить, вязать и в таком виде предъявлять по начальству.
И всегда, везде, куда ни плюнь, попадешь в инородца. Великий «польский» поэт Адам Мицкевич, между прочим, был литвин (что с гордостью подчеркивал)…
Есть такая историческая трилогия Генрика Сенкевича – «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский». Трудно объяснить иностранцу, с каким почитанием и трепетом к ней относятся в Польше. Идет сразу после Библии, одним словом. В обиходе именуется она попросту Трилогия (без всяких кавычек), каждый грамотный поляк и без объяснений понимает, о чем идет речь. Восемьдесят лет уже поколения польских школьников проходят ее так, как у нас, скажем, «Войну и мир», сочинения пишут, абзацы наизусть зубрят: «Вот уже по всей Речи Посполитой народ седлал коней, а шведский король все не мог уйти из Пруссии…»
Эта действительно увлекательная трилогия повествует о славных польских витязях семнадцатого столетия, живота своего не щадивших в битвах со шведами, татарами и Хмельницким. И описания ожесточенных схваток там наличествуют, и романтическая любовь, и приключения спаянных крепкой мужской дружбой героев благородных шляхтичей…
Вот только среди этих блистательных витязей, олицетворения польского рыцарства… нет поляков! Понимаете? Нету!
Честь Польши защищают одни инородцы: литовские чудо-богатыри Кмициц и Подбипятка, «русская шляхта», как они сами себя именуют, славный пан Володыевский сотоварищи (окатоличенные украинские дворяне). Этнический поляк среди них только один, пан Заглоба, но это второстепенный персонаж, откровенно комический герой, славный в основном пьянством и совершенно мюнхаузеновским враньем…
Десять лет прошло, а у меня до сих пор стоят перед глазами ошарашенные лица моих добрых знакомых, польских писателей, с которыми я однажды поделился этим литературоведческим открытием. Будь панство при саблях, не уйти бы мне невредимым – рубанули бы сгоряча. А потом, после того, как вслед за мной перечисляли героев и загибали пальцы, пришлось моим польским друзьям признать: и в самом деле, они как-то совершенно не замечали, что витязи Сенкевича – сплошь инородцы… Уда-ар!
Ситуация будет понятнее, если уточнить, что великий польский писатель Генрик Сенкевич польской кровью совершенно не обре-менен. Мать у него литвинка, а отец – из татар, в старые времена осевших в Польше. А впрочем, краса и гордость польской литературы минувшего столетия Станислав Лем – опять-таки не лях, а еврей из украинского Львова.
Но вернемся из времен полузабытых и легендарных в начало двадцатого столетия…
В полном соответствии с базисной теорией, создателем польского государства стал не поляк, а литовский шляхтич Пилсудский. Он это государство создал, он выиграл войну с Советской Россией – и скромненько отошел в сторону. Вот тогда независимые поляки и развернулись вовсю…
Бардак, как водится, настал такой, что хоть святых вон выноси. Сто двенадцать партий бузят в парламенте, экстремист застрелил насмерть законно избранного президента, коррупция фантастическая… Пришлось Пилсудскому свистнуть в два пальца старым сподвижникам и разогнать всю эту шоблу, установив некое подобие порядка.
Лучше всего характеризуют довоенную Польшу строки самого Пилсудского: «…Я же постоянно вынужден был следить за тем, чтобы не произошло предательство. Такая угроза существовала и в Генеральном штабе, и среди генералов, и в Сейме, и в Министерстве иностранных дел… Я победил вопреки полякам – с такими полячишками я вынужден был постоянно бороться… Правительству я доверять не мог, потому что оно крало еще беззастенчивее. У меня не было никакого доверия к Сейму и правительству… В Генеральном штабе каждый иностранец мог читать все, что хотел, военные тайны проникали к немцам и большевикам. Никаких секретов, по существу, не было… В Верховном командовании творились огромные злоупотребления. Вероятно, и многие депутаты Сейма были в них замешаны: не одно депутатское состояние было сколочено в результате злоупотреблений в военном хозяйстве, особенно грязным было дело о разворованных трофеях, взятых у немцев… Я одерживал победы тогда, когда бросал к черту другие дела, брался за главное – командование и побеждал. Победы одерживались с помощью моего кнута».
И после войны Пилсудский выражался о своих подданных ничуть не мягче. «Я выдумал много красивых слов и определений, которые будут жить и после моей смерти и которые заносят польский народ в разряд идиотов». Адъютант маршала услышал от него однажды: «Дурость, абсолютная дурость. Где это видано – руководить таким народом, двадцать лет мучиться с вами». А премьер-министр вспоминал потом, что за два года до смерти у сидевшего со «страдальческим и усталым лицом» Пилсудского вырвалось: «Ах, уж эти мои генералы, что они сделают с Польшей после моей смерти?» И добавил о генералах нечто такое, что Анджеевич, сам признавался, в жизни никому не мог повторить.
Вообще, бессмысленно искать как в событиях того же 1920 г., так и во всей многовековой истории польско-русских конфликтов правых и виноватых. Как бессмысленно пытаться установить, кто первым кинул каменюку, положив начало англо-шотландским войнам – британец или скотт. Как невозможно уже установить виноватых в многосотлетней франко-испанской грызне. У меня есть сильные подозрения, что в подобных ситуациях попросту нет правых и виноватых. У обеих сторон рыльце в пушку, по самые уши…
Новорожденная Польша, между прочим, едва оформившись в нечто официальное, браво отхватила у пребывавшей в совершеннейшем раздрызге бывшей российской империи немалые куски территории, населенной вовсе не этническими поляками, а украинцами с белорусами. А уж потом на Варшаву двинулась конница Буденного.
В межвоенное двадцатилетие, как я уже писал в первом томе, в игре азартно участвовали двое. ГПУ посылало в Польшу «партизан» вроде Ваупшасова и Хмары, а поляки, со своей стороны, отправляли на территорию СССР бандюков вроде Палияд и Булак-Балаховича. Потому что такая уж у Польши была национальная мечта: создать великую державу от Балтийского моря до Черного. И к середине тридцатых польские военные теоретики эти планы подробно расписывали в капитальных трудах.