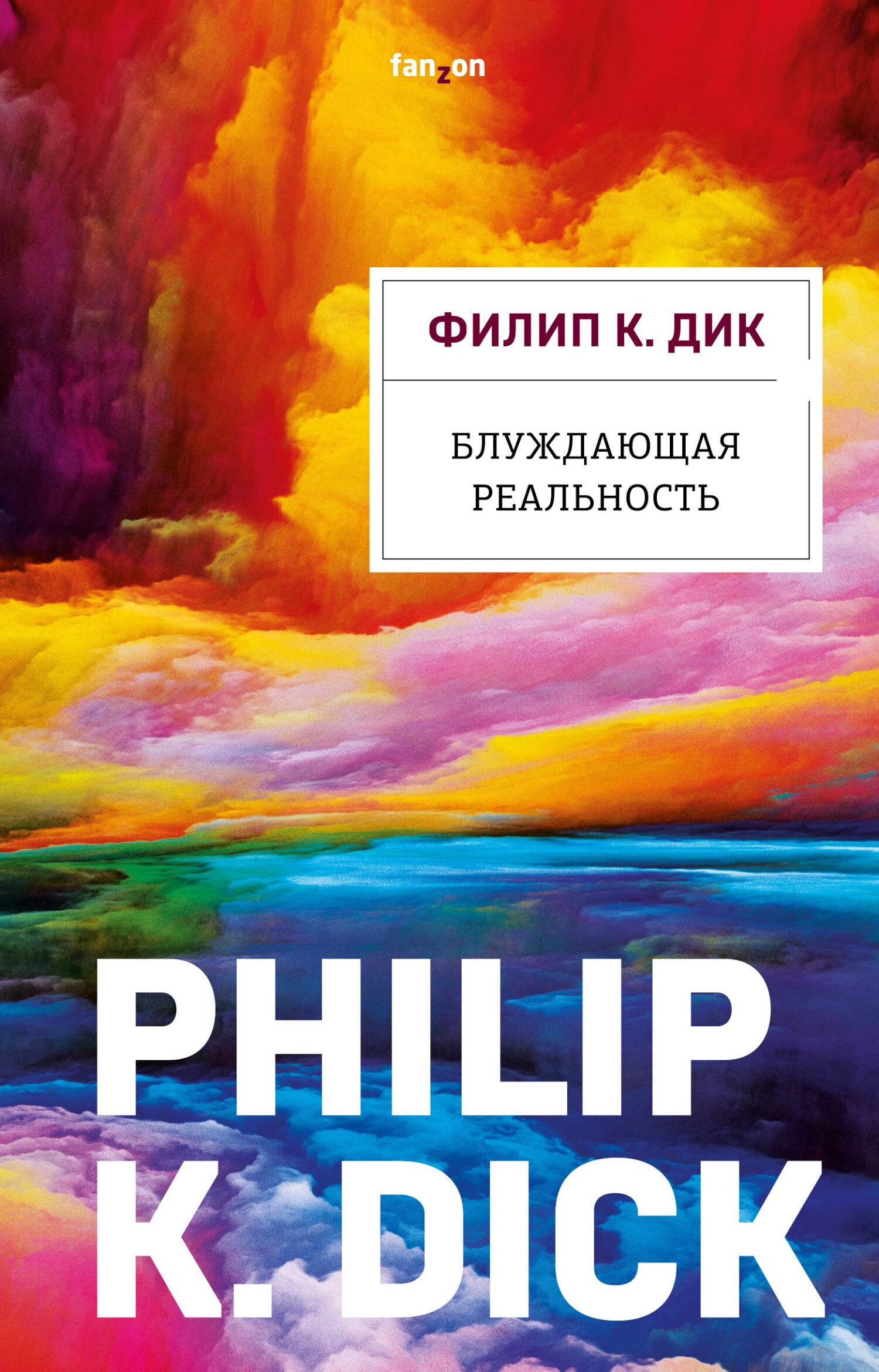всего, я не могу подделывать то, что вижу. А вижу я хаос и скорбь – значит, об этом и должен писать. Но порой я видел мужество и юмор – и их тоже вставлял в книги. К чему все это должно привести? Что за грандиозное мировоззрение вложит смысл в этот мир?
Мне помогает – если здесь вообще что-то может помочь, – когда в глубине ужасного и бессмысленного обнаруживается горчичное зернышко смешного. Вот уже пять лет я изучаю тяжеловесные, смертельно серьезные теологические сочинения – для романа, который сейчас пишу. Немало Мудрости Мира Сего пролилось с печатных страниц ко мне в мозг, чтобы он их обработал и выделил в виде новых слов: слова на входе, слова на выходе, а в середине мозг устало пытается найти во всем этом какой-то смысл. Так или иначе, вчера ночью я сел читать статью об индийской философии в «Философской энциклопедии», очень полезном восьмитомнике. Было четыре утра; устал я смертельно – уже не помню, сколько сижу над этим романом и копаюсь ради него в философских справочниках. А там, в середине серьезной научной статьи, было вот что:
«При помощи различных аргументов буддистские идеалисты доказывали, что наше восприятие не дает знания о предметах внешнего мира, отличных от воспринимающего… Окружающий мир, как предполагается, состоит из различных объектов, однако об их различиях нам известно только из того, что мы по-разному их воспринимаем. Но если различны наши переживания, нет необходимости поддерживать избыточную гипотезу о существовании внешних объектов…»
Иными словами, применив к основному эпистемологическому вопросу «Что есть реальность?» бритву Оккама, буддистские идеалисты пришли к выводу: вера в окружающий мир – «избыточная гипотеза»; иначе говоря, она нарушает Принцип Экономии, лежащий в основе всей западной науки. Так что окружающий мир отменяем и переходим к более важным делам, какие у нас там на повестке дня.
В ту ночь я отправился в постель, смеясь. Смеялся целый час. Да и сейчас смеюсь. Доведите философию и теологию до предела (буддистский идеализм, пожалуй, так и делает) – и с чем вы останетесь? Да ни с чем. Ничто не существует (несуществование нашего «я» они тоже доказывают). Как я и говорил, выход лишь один: увидеть, до чего все это смешно. Кабир, которого я цитировал, видел выход в танце, в радости и в любви; он писал о звоне «крохотных браслетов на ногах букашки-танцовщицы». Хотел бы и я услышать эту музыку; быть может, она унесла бы прочь и высокое давление, и гнев, и страх.
«Отзыв». Рецензия на книгу «Кибернетическое воображение в научной фантастике»
(1980)
Перед нами первая попытка издательства МТИ [71] справиться с научной фантастикой. Книга объемом менее 300 страниц весит почти полтора фунта [72] – впечатляет в сравнении с «Больше, чем люди» Теда Старджона, изданном Ballantine Books, который весит ровно четверть фунта. Надо понимать, книга Уоррик вшестеро значимее, чем книга Старджона. Свое исследование, сообщает нам Уоррик, она «основывает на 225 фантастических романах и рассказах, опубликованных с 1930 по 1977 годы». А выводами делится прямо в предисловии: «Это исследование демонстрирует, что большая часть фантастики, написанной после Второй мировой войны, реакционна по отношению к компьютерам и искусственному интеллекту. Зачастую она плохо информирована о теории информации и компьютерных технологиях и вместо того, чтобы предвидеть будущее, отстает даже от текущих научных достижений». Дальше Уоррик подробно рассказывает о своих эстетических критериях, исходя из которых судит фантастику (весьма интересно!). Три писателя-фантаста, на которых она ссылается чаще всего, – Азимов, Лем и я. Создается впечатление, что нас троих она считает наиболее значимыми, и в этом я бы с ней поспорил. На мой взгляд, само понятие «значимости» при оценке научной фантастики совершенно бесполезно. Покритиковал бы я и цветисто-неряшливый стиль книги (например, цитирую: «…тюрьма ложных иллюзий» – это не только плеоназм, но и двойное отрицание, а «воображение Дика, странствующего по образцам возможностей в развитии взаимоотношений человека и созданных им конструктов, исторгает потоки причудливых метафор», или «факел, бросающий отсветы во тьму будущего, высвечивает в нем потенциал выживания» и т. п. – просто выпендреж и неуважение к читателю). Однако я предпочту поспорить с целью этой книги и начну с того, что никакой цели у нее нет. Это книга-паразит, и само ее существование показывает, что фантастика как жанр движется к своему концу; только дряхлое, тускнеющее явление начинает привлекать к себе подобных академических кровососов. Как говорит Иисус: «Где будет труп, там соберутся орлы» [73].
Основная претензия, которую много раз повторяет Уоррик, – склонность фантастики предупреждать об опасностях новых технологий, как для отдельных людей, так и для общества в целом. Что ж, неприятно, но факт: писателей-фантастов тревожат модные тренды, они беспокоятся о том, какие утопии могут вырасти в будущем из настоящего; в этом и состоит главная ценность фантастики. Говорят, было когда-то время, когда наука и прогресс считались синонимами. Теперь же мы тревожимся, и на то есть причины. Не потому что ничего не знаем о состоянии мира или о прорывах в науке. Целую главу Уоррик посвящает моим романам и рассказам, в которых действуют роботы, и даже приводит мои слова: «Величайшая перемена, которую переживает сейчас наш мир, состоит в том, что живые существа становятся все более вещами, а механизмы – все более одушевленными». И что? Мне не дозволено смотреть на это с тревогой? Кто решает, о чем фантастам можно писать и тревожиться, а о чем нет? Книга Уоррик восхваляет меня, определяя мои работы как значимые, однако присваивает себе роль арбитра, призванного судить чужую точку зрения и чужую тревогу. Но и точка зрения, и предмет тревоги в фантастике определяется взаимодействием между автором, редактором и читателем; критик здесь всего лишь зритель. Читателю нравится то, что я пишу? – отлично. Не нравится? – тогда и говорить не о чем. «Значимость» – из правил другой игры, в которую я не играю. Начиная читать, а потом и писать фантастику, я думаю о чем угодно, только не о значимости. Сидя в школе на геометрии и потихоньку читая вложенный в учебник номер Astounding, я точно не значимости в них искал. Чего же я искал? Возможно, интеллектуального развлечения. Стимуляции ума.
Если академический мир аннексирует научную фантастику, это приведет ее к гибели, что бы ни думали по этому поводу Дилейни, Расс, Лем и Ле Гуин, единогласный хор жаждущих академического одобрения, словно оправдания на высшем суде. Но я смотрю налево и вижу потрепанный, без обложки номер Planet Stories за июль 1952 года; там был опубликован