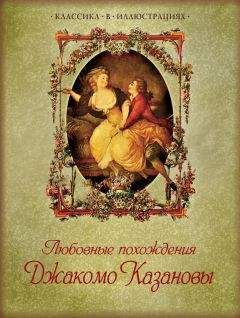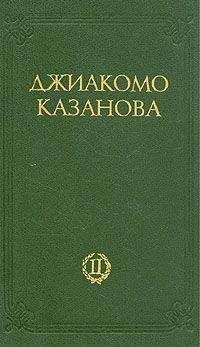Казанова… рассказывает про свою огромную жизнь без моральных прикрас, без поэтической слащавости, без философских украшений, совершенно объективно, такой, как она была, – страстной, опасной, беспутной, беспощадной, веселой, подлой, непристойной, наглой, распутной, но всегда напряженной и неожиданной…
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»
Я вступаю на поле брани, тружусь полчаса, обливаясь потом, утомляя Серамиду, но никак не могу кончить, стыдясь своего обмана; она утирает мне со лба пот, стекающий с волос, смешавшийся с помадой и пудрой; Ундина, дерзновенно лаская меня, возвращает силы, меня оставляющие, лишь коснусь я дряхлого тела; природа отвергает негодные средства, избранные мной для достижения цели. Через час я решаюсь кончить, изобразив все обыкновенные проявления счастливого исхода. Выйдя из боя победителем, с видом еще угрожающим, я не оставляю маркизе повода сомневаться в моей доблести. По всему видать, она сочла, что Анаэль был несправедлив: он заявил Венере, что я – фальсификатор.
Даже Марколина обманулась. Начался третий час, надлежало ублажить Меркурия. Четверть его времени провели мы в ванне, погрузившись до чресел. Ундина ублажала Серамиду такими ласками, о коих герцог Орлеанский и помыслить не мог[119]; она полагала их обычными среди речных Духов, и все, что проделывала с ней женщина-Дух своими пальчиками, приводило ее в восторг. Разнеженная от благодарности, она попросила прелестное создание одарить и меня своими милостями, и тогда-то Марколина показала все, чему только может научить венецианская школа. Вдруг обратилась она лесбиянкой и стала принуждать меня ублажить Меркурия; но у меня все то ж: хоть молния и сверкает, гром никак не грянет. Я видел, что труд мой уязвляет Ундину, видел, что Серамида мечтает окончить поединок, длить его я больше не мог и решил обмануть ее второй раз агонией и конвульсиями, а затем полной неподвижностью, неизбежным следствием потрясения, кое Серамида сочла беспримерным, как она мне потом призналась.
Его приключение с маркизой д’Юрфе (которая ждет от сексуального суперколдуна Казановы, что он преобразит ее в мужчину) – одна из самых ошеломительных историй, когда-либо случившихся в жизни (или хотя бы рассказанных).
Филипп Соллерс. «Казанова Великолепный»
Сделав вид, что пришел в себя, вошел я в ванну и совершил короткое омовение. Увидев, что я начал одеваться, Марколина стала одевать и маркизу, влюбленно глядящую на нее. Марколина скоро облачилась, и Серамида, вдохновленная своим Гением, сняла колье и повесила его на шею прекрасной купальщице, каковая, поцеловав ее по-флорентийски, убежала и спряталась в шкафу. Серамида спросила оракула, успешно ли свершилось деяние. Испугавшись вопроса, я заставил его ответить, что солнечное Слово проникло в ее душу и она родит в начале февраля себя самое, но только другого полу, а для того она должна сто семь часов лежать в постели.
Исполнившись счастья, она сочла повеление отдыхать сто семь часов исполненным божественной мудрости. Я поцеловал ее, сказав, что проведу ночь за городом, дабы забрать остаток снадобий, оставшихся после свершения лунных обрядов, и обещал обедать с нею назавтра.
Так как он хочет только свободы, так как деньги, удовольствия и женщины ему нужны лишь на ближайший час, так как он не нуждается в длительности и постоянстве, он может, смеясь, проходить мимо домашнего очага и собственности, всегда связывающей.
Стефан Цвейг. «Три певца своей жизни. Казанова»
Я от души забавлялся с Марколиной до половины восьмого, ибо не хотел, чтобы кто-то увидел, как я выхожу с нею из гостиницы, а потому был должен дождаться ночи. Я скинул красивый свадебный наряд, надел фрак и довез ее в фиакре до дому, прихватив ларец с небесными дарами, кои я честно заработал. Оба мы умирали с голоду, но отменный ужин обещал вернуть нас к жизни. Марколина сбросила зеленую куртку, облачилась в женское платье и отдала мне великолепное ожерелье.
– Я продам его, моя милая, и верну тебе деньги.
– Сколько может оно стоить?
– Не менее тысячи цехинов. Ты вернешься в Венецию обладательницей пяти тысяч дукатов звонкой монетой, там сыщешь мужа, будешь поживать с ним в свое удовольствие.
– Я отдам тебе все эти пять тысяч, только возьми меня с собой, милый друг, я буду тебе нежной подругой, буду любить тебя больше жизни, никогда не стану ревновать, буду холить тебя, как родное дитя.
– Мы еще поговорим об этом, красавица ты моя, но сейчас, раз мы как следует подкрепились, пойдем в постель, я влюблен в тебя как никогда.
– Ты, верно, устал.
– Устал, но не от любви, ибо, слава небесам, излился всего лишь раз.
– Мне показалось, два. Какая милая старушка! До сих пор не лишена приятности. Лет пятьдесят назад она, верно, была первой красавицей Франции. Но старость и любовь – вещи несовместные.
– Ты изрядно распаляла меня, а она охлаждала еще сильнее.
– Ужели ты всякий раз, как начинаешь нежничать с нею, ставишь перед собой юную девицу?
– Отнюдь, да ведь прежде[120] не требовалось делать ей ребенка мужеского полу.
– Так ты поставил целью обрюхатить ее? Ой, не могу, сейчас помру со смеху. Она, небось, и впрямь верит, что тяжела?
– Ну, разумеется, ведь она знает, что приняла от меня семя.
– Ну насмешил! А отчего сия блажь – на три раза подряжаться?
– Я мыслил, что, глядя на тебя, легко сие справлю, но ошибся. Руки касались дряблой кожи, а перед глазами совсем иное, и миг блаженства никак не наступал. Но сегодня ночью ты увидишь, на что я истинно годен. Ложимся же скорее, говорят тебе!
– Слушаюсь!
<…> Я не покидал постель четырнадцать часов и четыре из них посвятил любви. Я велел Марколине принарядиться и ждать меня: мы поедем в комедию. Большего удовольствия я не мог ей доставить.
Он любил со смехом, он любил со слезами, он любил с клятвами и с фальшивыми обещаниями, с искренними обетами и с правдивыми словесными каскадами, на свету и в темноте, с деньгами, без денег, для денег, а когда он не любил он говорил о любви и вспоминал о любви, и желал любви, и был полон любовью, полон единственной в своем роде и по-настоящему земной священной песнью любви, звучным гимном всему женскому роду.
Герман Кестен. «Казанова»
Г-жу д’Юрфе застал я в постели, всю разодетую, причесанную под молоденькую и такую довольную, какой я ее никогда прежде не видал. Она объявила, что обязана мне счастьем, и принялась совершенно здраво изъяснять безумные свои идеи.