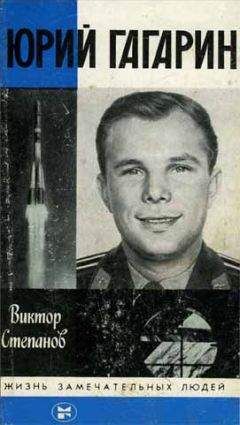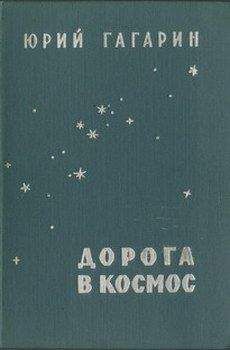19 февраля 1956 года он писал Д. П. Мартьянову: «Вчера получил от Вас письмо, за что большое спасибо… У нас здесь произошли кое-какие перемены в организационном отношении. Толя Колосов сейчас со мной не учится. Его перевели на выпуск в 1958 году, то есть на три года учебы. Он хотел было уехать домой, но я его отговорил. Я занимаюсь на выпуск в 1957 году… Ждем приближения весны, лета и полетов. Недавно были сильные бураны. Поезда на дорогах заносило с паровозной трубой. Мы ездили на снегоуборку. Ветер достигал 36 м/сек. Трудно было держаться на ногах. Вот я и поверил, что если привязать По-2 веревкой к чему-нибудь, то он будет болтаться в воздухе, а если отпустить, то уже никакими веревочками не поймаешь… Привет командованию и преподавателям аэроклуба…»
Толя Колосов «хотел уехать домой, но я его отговорил…». Может быть, Мартьянов и не обратил внимания на эту, как бы вскользь написанную фразу. А если и задержал на ней взгляд, то, наверное, усмехнулся: что за проблема? Мальчишки! Год меньше учиться, год больше. Юрий скрыл самое главное — о своих настроениях в письме ни слова, ни намека на то, что и сам он, казалось бы, выбравший прямую дорогу, расправивший крылья, набиравший уже высоту, вдруг опять оказался на внезапном распутье. Да, это трудно представить, но он решил бросить училище. Почему? Об этом он никогда и никому не рассказывал. Но действительно — было такое — Юрий засомневался в правильности намеченного пути. Какие раздумья поколебали его?
Считают, что прежде всего — сыновняя совестливость: он оглянулся на Гжатск, как бы увидев его с высоты, далеко-далеко внизу в тающей дымке садовых осенних костров, когда жгут прошлогодние листья и горьковатый запах стелется по унылым улочкам, над разъезженными, расхлябанными дорогами. Он представил свой домик, мать в телогрейке, несущую полные ведра на коромысле, отца с топором, засунутым под старый солдатский ремень, уходившего верст за двенадцать. Они, верно, ожидали в нем сына-помощника, сына-кормильца, а он все еще учился. А ведь получил отличную специальность. Мог бы стать мастером, а то и начальником цеха. И, глядишь, мать не считала бы каждый рубль…
Известие о том, что учебу в училище продлят на год, огорчило Юрия. В самом деле — не вернуться ли в Гжатск, устроиться на работу, жениться и жить-поживать, как все люди. Теперь, когда со своей семьей Валентин отделяется от родителей, Юрий стал как бы старшим в доме, опорой все чаще похварывающих своих стариков…
В притихшей, охваченной сном казарме, в тревожном свете синей дежурной лампы они перешептываются с Колосовым и до утра ворочаются, не могут уснуть. Месяц заглядывает в окна, бередит их души. Выпуск 58-го? Это уж слишком. Надо что-то предпринимать. Но что?
А между тем в один из выходных дней намечался в училище бал. Паркет надраен до блеска, в зале пахнет «Шипром» и гуталином, в сапоги хоть смотрись, все наглажено, отутюжено. Да, весь вечер утюг нарасхват, подшиты чистейшие подворотнички. И вот они входят, молодые курсанты, в чертоги вчера еще запретного для новичков и разрешенного после утомительного карантина, веющего девичьими духами бала. И как положено «лысеньким», Юрий тоже робко отступает к стене, хотя Дергунов, который смелее, зовет в наступление.
— Но вот это… Это танго, пошли!
Две девушки — одна в бордовом, другая — в голубом. Что-то наполнило радостью узнавания. Ах да, та в Колонном зале с кружевными снежинками. Нет, та была озорнее, подхватила, вплела в хоровод, а эта скромно стоит в сторонке, но Юрию кажется, будто он ощущает касание карего взгляда, так, мельком, как будто бы ненароком… И, побарывая нерешительность, чувствуя, как загораются уши, приподнимаясь слегка на носках, чтобы казаться повыше, он через залу направляется к ней.
— Разрешите?
И только она положила руки — одну ему на ладонь, а другую на курсантский погон, как сразу стало легко и свободно. Тонкий запах сирени, теплеющий взгляд, и кружение, кружение, кружение, как с крыла на крыло: переверт, переверт, переверт. Платье — небо, а очи — дневные звезды, до чего же головокружителен, радостен этот полет! «Как вас зовут!» — «Валя…» И через два оборота: «А вас?» — «Юра. Вы учитесь или работаете?» Обычная, ничего не значащая перемолвка. Но он уже от нее не отходит. Танго, фокстрот, вальс-бостон… Первые такты девушке кажется, что не сумеет сделать ни шага, ни оборота, не из тех он красавчиков — безупречных танцоров. Но прислушался, приноровился и вот уже сам ведет, и сладостно в этих крепких сильных руках.
Танцы до десяти. Проводить разрешено только до выхода, до КПП. А они, словно знают друг друга давно, как о решенном обоими:
— Значит, до следующего воскресенья? Хотите, пойдем на лыжах?
И открыто заглядывает в глаза. И пожимает руку не как провожатый, а просто как друг.
— Хорошо, на лыжах, значит, на лыжах…
И опять в казарму, где в курсантской бессоннице после бала дежурная синяя лампа видится яркой неизвестной звездой. Но коготок сомнения царапает душу: «Вот поеду домой, сниму свою летную форму, интересно, со мною «гражданским» пойдет танцевать? Валя Горячева… Назначили у телеграфа… Отпустили бы в увольнение». И дрожит, переливается светом надежды открытая им сегодня звезда.
В воскресенье свидание.
После кинотеатра заспорили о картине, мнения расходились, чуть было не поссорились. Шли в неловкости, молча. Возле дома Горячевых Юрий, словно бы спохватившись, взял руку:
— Значит, до следующего воскресенья? И знаете, куда мы пойдем?
— Куда?
И вспыхнули веселинки в озорноватых глазах. Сказал просто, не сомневаясь:
— К вам в гости…
Через неделю в Валином доме дым коромыслом. Иван Степанович, отец, подначивает: «Со сватами придет или один?» А сам на кухне постукивает ножом, пошлепывает по тесту — угощение будет на славу, недаром работает поваром в санатории. Мать, Варвара Семеновна, то подвинет белые занавески на окнах, то повернет кружевную салфетку на тумбочке, пыль смахнула с комода, которой не было.
И вот он, столь ожидаемый, сразу бросивший Валю в краску, голос с порога:
— Здравствуйте! Валя дома?
Сбросил шинель, снял шапку, расправил под ремнем гимнастерку и уже как свой:
— Пельмени? Могу помочь. Валя, прошу полотенце.
Повязал его фартуком, присмотрелся к Ивану Степановичу, взял рюмку, и вот уже ловко штампует тесто. Все в восторге, вот это парень — так быстро лепит пельмени!
«Здравствуйте, Валя дома?» Он обезоруживал своей доверительностью, простотой, откровением. Но это все на людях, а о сокровенном пока ни слова. Никто и никогда не узнает тех трепетных слов признания. Они шли навстречу друг другу осторожно, долго приглядываясь. И конечно, не вся правда осталась в воспоминаниях, адресованных всем.