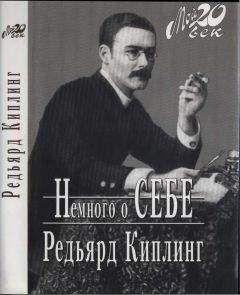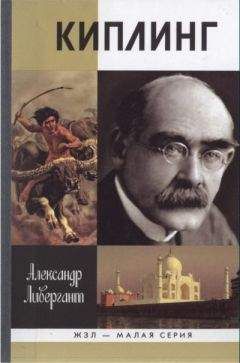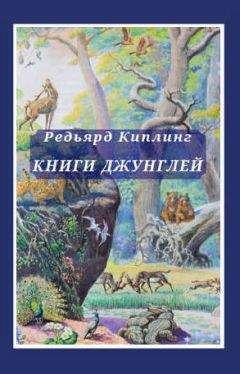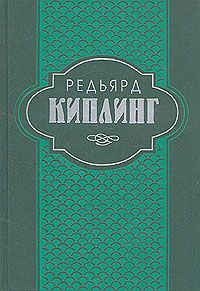У всех бурских отрядов имелась своя репутация, и чем больше седины было в бородах членов отряда, с тем большим почтением мы к нему относились. С пожилыми стрелками из Ваккерстроома требовалась особая осторожность. Они стреляли, можно сказать, на приз. Молодежи до них было далеко. Участвовали в войне и отряды иностранцев, они упорно сражались на европейский манер. Буры благоразумно ставили их на передний край и держались от них подальше. В одном бою трансваальские полицейские сражались блестяще и оказались перебиты почти полностью. Но большей частью они были шведами, что огорчило нас.
Иностранцы иногда попадали в плен. Среди них я помню одного француза, он пошел воевать только потому, что ненавидел Англию по убеждению, однако, будучи профессионалом, не мог удержаться от советов, как нам следует вести войну. Говорил он здраво, но несколько желчно.
«Война» превратилась в неприятную смесь «политических соображений», социальных реформ, жилищного строительства, забот о материнстве и всевозможных нелепостей. Возможно, хотя я в этом сомневаюсь, мы убили в общей сложности четыре тысячи буров. Наши потери, главным образом от болезней, которые можно было предотвратить, должно быть, выше в шесть раз.
Младшие офицеры соглашались, что эту войну следует считать «блестящим парадом перед Армагеддоном»[208], но практические выводы их были ошибочными. Прицельная стрельба из винтовок с дальнего расстояния в будущем станет решающей, утверждали они. Войска не смогут подойти друг к другу ближе чем на полмили, и конная пехота станет жизненно важной. Обнаружив, что пешие солдаты не могут настигнуть всадников, мы создали восемьдесят тысяч лучших в мире конных пехотинцев. В Западной Европе они были не нужны. Артиллерийской подготовке, которой не было в бою при Магерсфонтейне, реформаторы почти не уделяли внимания в своих планах из-за трудностей подвоза боеприпасов на конной тяге. Мелкокалиберные скорострельные пушки и легкая конная артиллерия лорда Дандоналда[209] расходовали запас снарядов за три-четыре минуты.
В ветхом блумфонтейнском отеле, где жили корреспонденты и куда заглядывали офицеры, по этим вопросам велись долгие, ожесточенные споры — поскольку никто не думал о двигателе внутреннего сгорания, который поставит мир с ног на его тупую голову, а поскольку наша беспроволочная связь на том ландшафте не действовала, мы все толкли воду в ступе.
Со временем война перешла на политические рельсы. Братец Бур — так его называли все, от солдат до генералов, — упорно не хотел умирать. Наши солдаты не понимали, с какой стати им гибнуть, преследуя отдельные отряды, или гнить в блокгаузах, и повели деморализующую игру по очередной сдаче в плен, осложнявшуюся обменом армейского табака на бурское бренди, что было скверно для обеих сторон.
В конце концов мы ушли, извинясь перед глубоко возмущенными людьми, которых лечили и выхаживали почти два года; теперь они требовали всевозможных даров, бесплатного оборудования для земледелия, которым никогда не занимались, и получали их. Мы позволили им дать еще большую волю своей примитивной страсти к расовому господству и благодарили Бога, что «избавились от этих мошенников».
Ежегодно, после всех этих событий и потрясений, мы проводили пять-шесть месяцев в безмятежности Англии, потом возвращались к еще большей безмятежности «Гнездышка», к нависающим над внутренним двориком дубам, где белка-мать учила бельчат лазать по деревьям, а падение желудя в тишине жаркого дня раздавалось как выстрел. По одну сторону от дома находилась сосново-эвкалиптовая роща, насыщенная смешанным ароматом; спереди наш сад, где все посаженное в мае превращалось к декабрю в цветущий куст. Позади покрытый уступами склон Столовой горы с зарослями серебристого лейкодендрона вдоль оврагов. К дому Родса «Гроте Шиур[210]» шла тропинка по лощине, поросшей гортензией, превращавшейся осенью (английская весна) в сплошную голубую реку. В этот рай мы приезжали в конце каждого года, с 1900 по 1907, — с гувернанткой, слугами и детьми, поэтому последние знали и, как водится у детворы, считали своей пароходную линию «Юнион Касл» вместе со стюардами, а когда гувернантки менялись, объясняли новой, как приспособлены каюты для дальнего плавания и «что где лежит». Кстати, двух гувернанток и одной любимой кухарки мы лишились потому, что они вышли замуж, теплые моря благоприятны для этого.
Жизнь на судне была просто-напросто продолжением Южной Африки и ее интересов. Там было много евреев из Ранда, поселенцев; местных уполномоченных, имевших дело с басутами[211] или зулусами[212]; людей, участвовавших в войнах Матабеле[213] и основании Родезии; золотоискателей; политиков всех мастей, с головой погруженных в свои дела; армейских офицеров, от одного из них я, не ожидавший подобного сокровища, услышал рассказ, который назвал «Лисички» — до того точный в деталях, что мне написал потрясенный суперинтендент полиции из Порт-Судана, спрашивая, откуда я узнал клички собак в той своре, которую он натаскивал в юности. Я написал в ответном письме, что разговаривал с их владельцем.
Джеймсон однажды возвращался с нами в Англию и опорочил себя за столом, где мы постоянно обедали. В первый день пути к нам подсадили в высшей степени чопорную даму с двумя белокурыми дочками, и когда она вполне справедливо стала возмущаться качеством пищи, назвала ее тюремной жратвой, Джеймсон сказал: «Как представитель криминальных классов уверяю вас, она еще хуже»[214]. В следующий раз за столом сидели только мы.
Однако путь на юг бывал радостным, потому что в него неизменно входило празднование Рождества неподалеку от экватора, где забывалось обо всем на свете; регулярные надписи мылом на зеркалах, выводимые ловкими стюардами, и превосходный бал-маскарад. Затем, когда высоко над горизонтом поднимался Южный Крест, начиналась упаковка теплой одежды в полной уверенности, что до мая она не понадобится, показывалась приветливая, хорошо знакомая гора, и мы бежали в сад посмотреть, что произошло там за время нашего отсутствия; потом следовали краткие визиты босиком к Струбенам в Стру-бенхейм, где детей постоянно баловали; широкая улыбка прачки-ма-лайки и продолжение беззаботного существования.
Жизнь там шла приятно, особенно для детей, которые могли играть со всеми животными в поместье Родса. На холме жили львы, Алиса и Джамбо, их рык по утрам служил сигналом к подъему. Загон с зебрами, где жили и страусы эму, — пологий склон в десятки акров — находился прямо за «Гнездышком». Зебры постоянно играли в войну, как Львы и Единороги на королевских гербах; цель заключалась в том, чтобы схватить зубами переднюю ногу противника ниже колена, не давая ему вырваться. Если они хотели уйти, их не могла удержать никакая ограда. Мыс Джеймсоном однажды видели, как семейство из трех зебр возвращалось с прогулки. Путь им преграждали толстые деревянные столбы с рядами туго натянутой проволоки, но под нижним рядом была канавка. Папа опустился на колени, подсунул под проволоку морду до самого загривка, приподнял ее и прополз. Мама и малыш последовали его примеру. Старая лошадь газонокосильщика решила, что может тоже убежать, но лишь уперлась толстым задом в один из столбов и время от времени оглядывалась, удивляясь, что он не поддается. Это было, как сказал Джеймсон, полной аллегорией бура и британца.