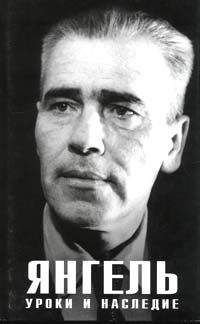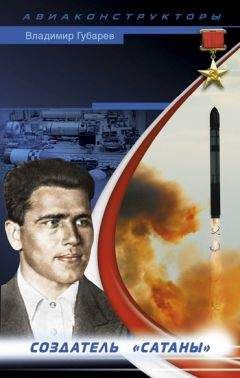— Не будете ли вы, голубчик, столь любезны, когда окажетесь в провизионном магазине, прихватить заодно кое-что и для меня?
Николай Николаевич как-то быстро все и обо всех узнавал. Проведав, кто такие я и Шура, он представился нам как брат знаменитого химика Реформаторского, автора известного в те годы вузовского учебника; правда, Николай Николаевич предпочел сохранить свою фамилию в русском варианте — Преображенский. Когда же дошла наша очередь «прихватить кое-что из провизионного магазина», то мы, чтобы не прослыть жмотами, прихватили еще и поллитровку и распили ее «на троих» с этим, — как мы его называли, — осколком Санкт-Петербурга.
Однако этот кутеж прямиком вывел меня на грань финансового краха, тем более что фактическая дата экзамена была перенесена с 3-го числа на 11-е. Поэтому мне пришлось основательно изучить витрины гастрономов и, сопоставив их со своими возможностями, строго определить себе ежедневную норму расходов на питание. Я уговорил Шуру отказаться и от езды на трамвае: дескать, трамвай — не лучший способ изучения Ленинграда и его достопримечательностей. И еще я где-то вычитал, что даже знаменитый баснописец И. А. Крылов предпочитал ходить по Петербургу пешком, да еще без перчаток, в самые лютые морозы.
Все десять дней ожидания экзаменов мы с Шурой проводили в вопросах и ответах по пунктам программы МГУ и ЛГУ по теоретической физике, и происходило это на облюбованной нами скамейке в институтском парке. Постепенно к нам начали присоединяться некоторые из наших коллег, дерзавших попасть в аспирантуру. Среди них более всех мне запомнились прошлогодние выпускники института имени Герцена, которые успели по одному году поработать ассистентами: один — в Брянске, а другой — в Смоленске. Постепенно вокруг нашей скамейки образовался постоянный кружок, — вроде самодельного семинара, который собирался в строго назначенное время, устраивал обеденный перерыв и снова возобновлял свои занятия до конца «рабочего дня». В обеденный перерыв, когда все уходили в столовые, я ухитрялся увиливать от приглашений коллег пообедать вместе. У меня был свой режим питания: с утра закупался и комплектовался побутербродно мой дневной рацион, разделенный на завтрак, обед и ужин, хотя не всегда мне удавалось удержаться от соблазна съесть все сразу, в один присест.
В день экзаменов мои коллеги-соперники, стучавшиеся в дверь, ведущую к вершинам науки, не могли не заметить, что на моем еще более исхудавшем лице как-то по-особенному выделялись скулы, горевшие болезненным румянцем, лихорадочно блестели глубоко провалившиеся, в синих полукружиях глаза. А сам я почувствовал, что к 5 часам, когда подошел мой черед экзаменоваться, у меня от голодухи разболелась голова.
Экзамен проходил конвейером сразу в трех комиссиях. В левой половине зала, ближе к входу, экзаменующегося начинали «допрашивать» на иностранном языке. Затем напротив, в правой половине зала расследовались его философские знания, и только после этого он попадал на перекрестный допрос комиссии физиков, восседавшей за большими столами, выставленными буквой «Т» в глубине зала. К моему удивлению, отвечать на вопросы членов комиссии пришлось без доски и мела, без написания формул, но вопросы ставились так, чтобы на них невозможно было дать словесный ответ, не владея соответствующими математическими формулировками физических законов и концепций.
Но весь этот высокий суд не объявлял свой приговор никому из испытуемых, а ждал, пока пройдут все одиннадцать, чтобы путем сравнения остановить выбор на одном из них. Этого момента нам довелось ждать до девяти вечера. Вот уже начали расходиться по домам один за другим члены комиссии. Затем вышел ученый секретарь и объявил:
— Комиссия рекомендовала зачислить в аспирантуру по кафедре теоретической физики товарища Кисунько.
Ученый секретарь запнулся, когда читал по бумажке непривычную для него фамилию, а ударение поставил на среднем слоге вместо привычного для меня последнего слога. Может быть, поэтому я не признал прочитанную фамилию за свою, а может быть, еще и потому, что вообще не рассчитывал ее услышать. К тому же из-за жуткой головной боли я находился в странном состоянии отрешенности от всего окружающего.
Из этого состояния вывел меня Шура Чебанов, который встряхивал меня за плечи и с сияющим лицом поздравлял. Вслед за ним меня поздравляли еще два моих недавних соперника: брянский и смоленский. Все трое были искренне рады, как будто это их, а не меня зачислили в аспирантуру. Но я довольно тупо реагировал на их поздравления, так как у меня теперь не то чтобы болела, а буквально разламывалась голова.
Между тем эти трое моих друзей-соперников уже договаривались между собой о том, как бы накормить этого нищего студента, а заодно и вспрыснуть это дело и самим хорошенько поужинать. Я не заметил, как оказался вместе с ними в ресторане, находившемся на Невском, в одном здании с кинотеатром «Баррикады».
На столе появились закуска и графин с водкой. Смолянин, который как-то с ходу начал верховодить за столом, налил полные стопки, встал, витиевато-торжественно произнес:
— От имени несостоявшихся аспирантов предлагаю тост за успехи достойнейшего, на кого пал выбор высокочтимой комиссии.
Все дружно выпили, а я при попытке выпить только скорчил гримасу отвращения и поставил бокал на стол. Смолянин отнесся к этому с пониманием.
— Правильно, — сказал он. — Советую сначала подкрепиться. Иначе натощак от одной такой штуки, — он указал на рюмку, — ой как плохо будет! А за себя можно и не пить.
Потом он снова налил в рюмки и произнес новый тост:
— Итак, друзья, за первую, но не последнюю удачу будущего профессора!
Пока товарищи пили и закусывали, виновник торжества, ранее знавший только студенческие столовые, впервые ел блюдо со странным названием «эскалоп». А с водкой у меня были особые счеты после того памятного дня, когда я, семиклассник, имел честь ее отведать. Вернувшись из школы, я обнаружил в проходной комнате, через которую должен был пройти в нашу клетушку-боковушку, компанию за столом, на котором стояла закуска — квашеная капуста в большой эмалированной миске; водку пили стаканами. В компанию входили дядя Митя, дядя Илья и его ровесник — племянник Ванька, было еще трое из нашего поселка. Кто-то из них, увидев меня, сказал, что надо, мол, и Гришке налить, а другой возразил: мол, пацан еще твой Гришка, папку-мамку забоится. Такое оскорбление я не мог стерпеть, — тем более что папка-мамка были на работе. Я швырнул в угол свою полотняную торбу с книжками, решительно подошел к столу, взял граненый стакан, со стуком поставил его на стол и, стараясь говорить «взрослым басом», сказал: «Наливай!…» — при этом еще по-взрослому матюкнулся. Все опешили, кто-то мне налил полный стакан, я его залпом осушил, внутри меня больно обожгло, во рту противно, но я еще успел «по-взрослому» плеснуть стаканом в потолок: мол, смотрите, осушил все до капли. Мои дяди опомнились, начали ругать шутников, а мне, четырнадцатилетнему мужику, пытались пихать в рот горсти квашеной капусты. Но я выскочил во двор и повалился под яблоней на доски, положенные на остов железной койки. Почувствовал сильное головокружение, потом голова словно бы отделилась от тела и куда-то полетела и совсем исчезла в темном пустом пространстве. Проснулся я, а лучше сказать, вернулся из беспамятства поздней ночью. Меня бил озноб, мучила голодная рвота, общее самочувствие было препоганое. Я был противен сам себе.