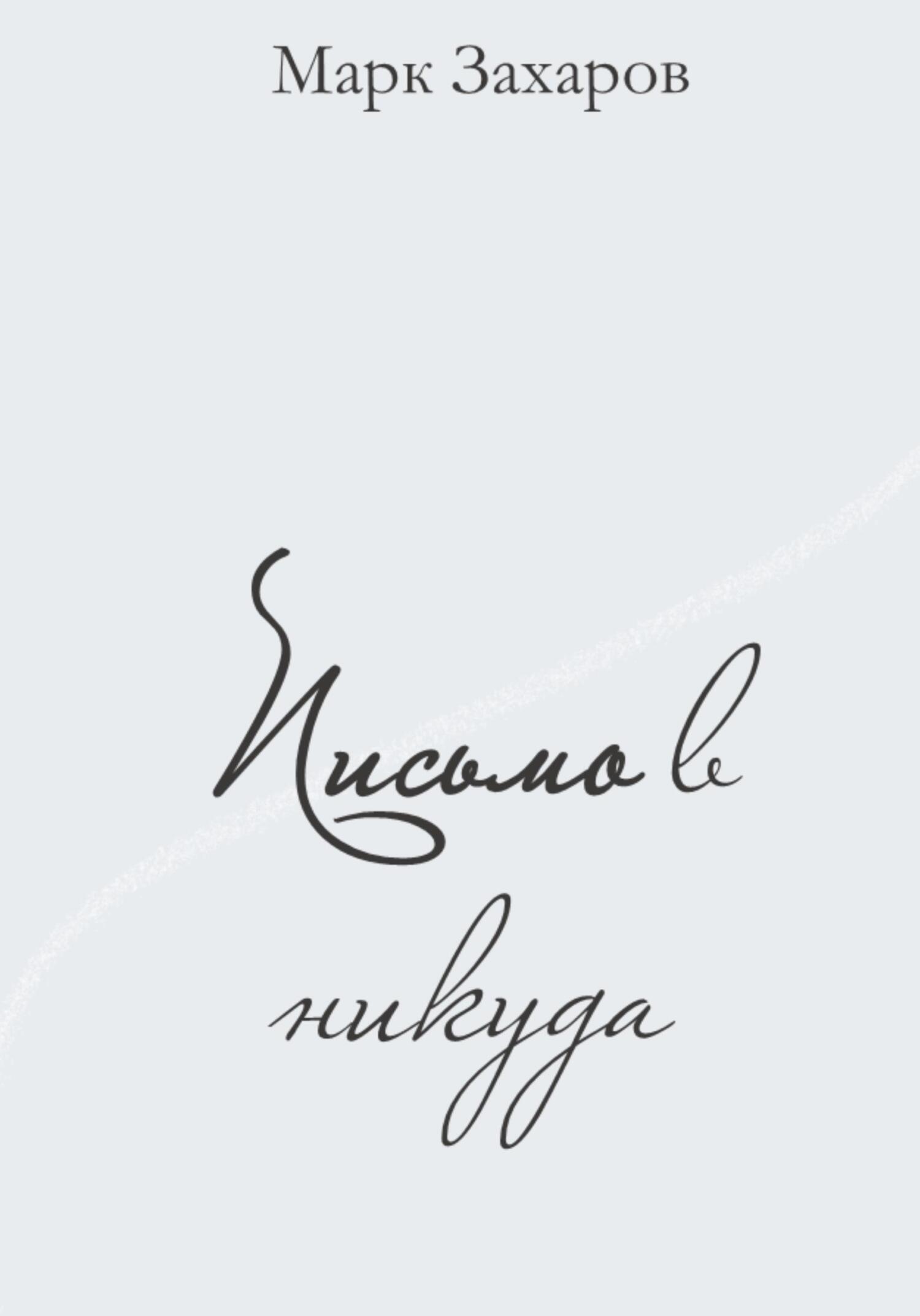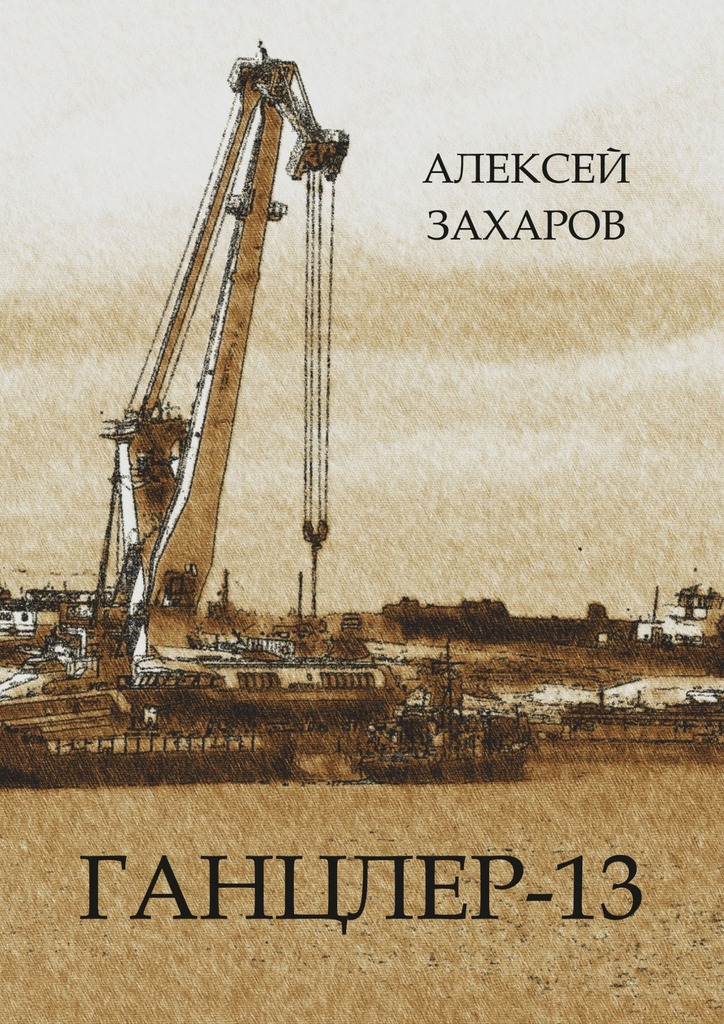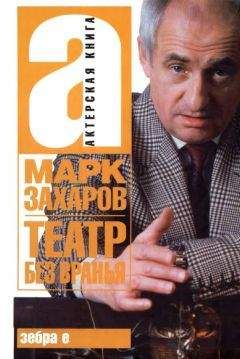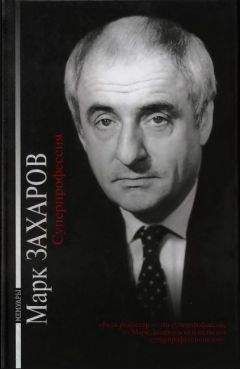парика, вряд ли бы так тщательно подбирал в парикмахерском цехе ресницы для наклеивания и искал бы рычащие голосовые модуляции. Отдавая себе отчет в наличии редчайшего дара, он бы тратил время на какую-то внутреннюю отработку своих феноменальных возможностей. Но, увы, на спектаклях этого не происходило. То есть он, конечно же, собирал, концентрировал свою внутреннюю энергию, поражал зрителя, но того, что демонстрировал нам в репетиционном зале, зрители никогда не видели. Говорят, что Л. М. Леонидов во МХАТе тоже поражал всех на репетициях, а спектакли проводил подчас неуверенно. Словом, есть и такие загадки в нашей и без того загадочной профессии. Я не раз пытался осторожно делиться с Анатолием Дмитриевичем своими воззрениями на этот счет, он слушал внимательно, иногда даже кивал, но дальше этого дело не шло.
Тем не менее работа его в спектакле была замечательной. Вообще, мне кажется, что все играли отлично. Спектакль существовал недолго и, по-моему, не успел развалиться. Актеры, включая исполнителей эпизодических ролей, действовали энергично, заразительно, талантливо.
Зловещая, заунывная карусель действия вращалась не сама по себе, а исключительно в восприятии главного героя – Василия Николаевича Жадова. Все построение спектакля очень скоро сообщало зрителям эту субъективную жадовскую точку зрения, эту определяющую позицию моноспектакля. Можно было предположить, что стены и двери не крутились вообще – они «вращались» в голове у Жадова.
Чтобы понять постановочный фундамент, на котором была выстроена сценическая жизнь Жадова, надо сказать о том, что, по-моему, спектакль нес в себе некоторые едва заметные приметы не существующего пока у нас спектакля-эссе. Впрочем, не исключено, что я невольно проецирую в прошлое свои нынешние раздумья и поиски. Мне неинтересно сегодня, например, смотреть сорок восемь серий «Войны и мира» Л. Н. Толстого. Я не хочу столь скрупулезного и объективного рассказа, я читал «Войну и мир» и, если захочется, еще раз ее перечитаю; смотреть на живые картинки в грамотном, традиционном исполнении я как-то не расположен. Но мне был бы бесконечно интересен, скажем, телевизионный фильм, где лучшие режиссеры нашей эпохи взаимодействовали бы с великим творением Толстого. Мне было бы любопытно видеть художественную материализацию того, что думает, о чем грезит большой Мастер, когда его мозг, его интуиция соприкасаются с идеями «Войны и мира».
Что касается вообще субъективности наших сценических фантазий, она закономерна. В нашей жизни мы мало что можем правильно оценить с первого раза. Поезжайте в очень хороший город на один день, в плохую погоду, в самую скверную гостиницу, с зубной болью и аварией на водопроводной станции. Этот хороший город останется для вас на всю жизнь кошмаром.
* * *
Маленькое отступление по поводу взяток.
Не скрою, что в 1967 году слово «взятка» воспринималось мною как своего рода этнографическое понятие, вышедшее из нашего разговорного обихода. Вообще, при беглом (поверхностном) знакомстве с некоторыми понятиями, часто встречающимися в пьесах А. Н. Островского, «взятка» вместе с другими старомодными выражениями воздействовали на мое сознание поначалу как своеобразный психологический тормоз. Сознательно или бессознательно это слово мы относили к давно ушедшему времени. Может быть, и не столь древнему. Слово «взятка» имело широкое хождение в 20–30-х годах. Отчасти оно мелькало еще в военные и послевоенные годы, но сегодня, давая или принимая взятку, мы называем это деяние по-другому. Появилось много синонимов от «посреднических услуг» до оплаты за «лоббирование». Пишу это потому, что это не есть мое субъективное восприятие, скорее это объективная данность.
Однажды (несколько лет назад), заговорив о «Доходном месте» вообще и в частности о желании или нежелании Жадова брать взятки, я, помню, встретил у моих студентов некоторый скепсис в отношении к этому «ветхозаветному» занятию. Студентам моей режиссерской мастерской показалось, что страдать всерьез по поводу получения или дачи взятки – что-то очень от нас далекое и старомодное. Очевидно, молодые люди относились к взятке, как и я, начиная репетиции «Доходного места», вне ее экономического эквивалента. Ну, дадут тебе немного «на лапу» или ты отмахнешься от подачки – чего тут страдать? Чего с ума-то сходить? Как можно делать взятку центром драматической интриги? Не значит ли это скатиться к фонвизинскому «Бригадиру» или нравоучительным пьесам XVIII века, например к сочинениями Екатерины II?
Поскольку я в 1967 году испытал похожие ощущения, мне, как я помню, пришлось приложить немалые усилия, чтобы соскрести со словечка «взятка» поверхностное чисто рефлекторное восприятие у моих учеников и перевести дело в плоскость «кровавого» конфликта. Пришлось даже кое-что пояснять, как бы на собственном примере.
«Согласны ли вы, что я имею некоторую режиссерскую гордость, определенные убеждения и, скажем так, художническое достоинство?» – спросил я у студентов. Молодые люди охотно согласились.
Далее я с деловыми подробностями предложил исследовать придуманную мной ситуацию, но отнестись к ней как к реальной. Допустим, мне предлагают поставить «суперсекс-шоу» с самыми изощренными порнографическими игрищами на территории лучшего городского казино и, естественно, согласиться на тиражирование роскошной афиши с огромными буквами: «Автор идеи и режиссер-постановщик Марк Захаров». Мне предлагают прекрасный гонорар в 50 000 или даже в 100 000 долларов, который я, естественно, вежливо отвергаю, как и саму постановку.
Гонорар, конечно, щекочет нервы, но мой естественный отказ не становится драмой и вообще поводом для трагического исследования моих переживаний или, не дай бог, страданий.
Получив отказ, продюсер утраивает сумму гонорара – отказаться будет как бы чуть сложнее, но дело своей сути не меняет.
Мне предлагают миллион долларов – я снова упрямо отказываюсь.
Тогда мне предлагают три миллиона долларов с гарантией официального правительственного разрешения на размещение суммы в стабильном иностранном банке и получения пожизненной ренты для меня и моих наследников.
Хочу я того или нет, я начинаю не просто думать, а мучительно размышлять. Имею ли я право чистоплюйствовать, когда, скажем, мои близкие или дальние родственники нуждаются в серьезном лечении, улучшении жилищных условий, если они всю жизнь живут в коммунальной квартире, ну и так далее, можно фантазировать до бесконечности про себя и близких. Это ведь только красивые пустые слова: «Здоровье за деньги не купишь». Нет, как раз сегодня, при мощной, дорогостоящей медицинской аппаратуре, при чудовищных ценах на медикаменты, большая сумма денег может существенно продлить жизнь человека. И потом, я же смогу помочь тем своим товарищам по театру, которые остро нуждаются в помощи, они и их дети, которые не в силах выйти на нормальный или заслуженно повышенный уровень жизни? Почему не могут? Потому что я, видите ли, застеснялся этой, как у нас говорят, «халтуры». Я такой надменно-гордый, бескомпромиссно-щепетильный нарцисс.
Ну хорошо, может быть, я не