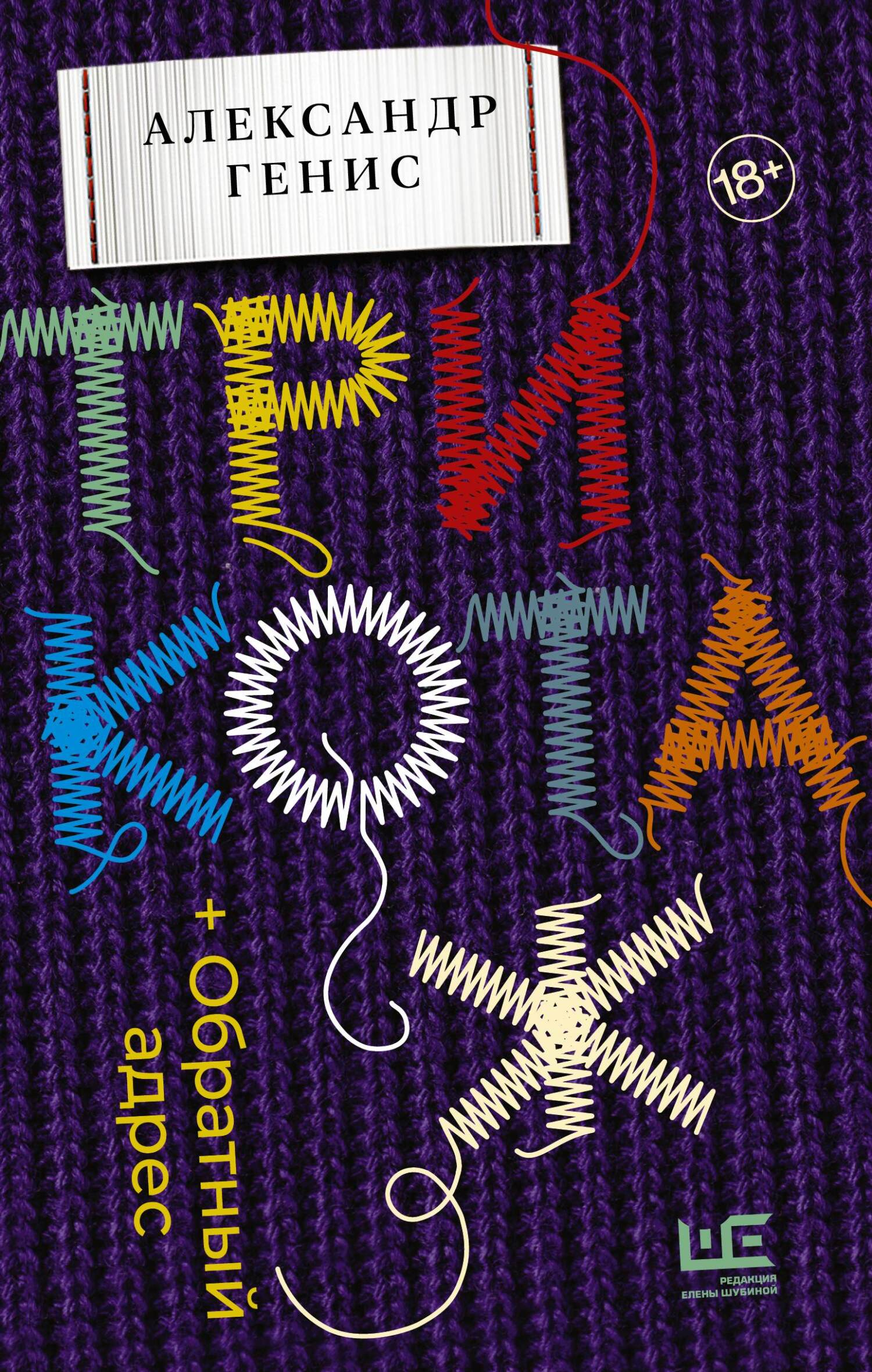в том числе в уборной.
Из всех новшеств главным был трёхногий столик уникальной эллиптической формы, которую отец обнаружил на страницах все той же “Польши”. Столешницу из толстой фанеры нам выпилили по блату. Мама работала на атомном реакторе, где умели делать все, кроме полезного. Три гнутые ноги отец приклеил сам. Чтобы стол не выделялся, его раскрасили, как клоуна, и поставили под неизбежным торшером.
На готовое пришли гости и сели за преферанс на новом столе. С тех пор они редко уходили. Игра продолжалась до глухой ночи, но меня не гнали, и я, научившись держать язык за зубами, следил за картами, переживая за всех.
Посередине стола лежала “пуля” – расчерченный, как мишень, лист, на котором велась бухгалтерия преферанса. Первый самиздат, отпечатанная умельцами с того же реактора пуля делилась вековыми поговорками. В одном углу вздох: “Знал бы прикуп – жил бы в Сочи”. В другом урок: “Худшие враги преферанса – шум, жена и скатерть”. В третьем загадочный совет: “Нет хода – ходи с бубей”. В четвертом сухое назидание: “За игру без сноса наверх без двух”, но оно не помогало Фончику, когда к концу партии он оставался с двумя лишними картами на руках. Фонарев всегда ходил в галстуке, читал на трех языках, говорил на четырех и помнил ту Латвию, которую все из зависти называли “буржуазной”. По профессии он был сапожником и жил на широкую ногу, когда не забывал снести.
Научившись преферансу, я стал приглашать уже своих гостей. Но однажды, не выдержав юного азарта, стол рухнул вместе с бокалами и фарфоровым сервизом. Уцелели только чайные ложки. Оглядев руины, родители решили, что я вырос, и столик исчез из дома. Вместе с ним кончились 1960-е.
6. Висвалжу, или Мои университеты
1
Все свое образование я получил на короткой, в один квартал, улице с названием, напоминающим глагол: Висвалжу. Здесь располагалась и очень средняя 15-я школа, и такой же филологический факультет.
К тому времени, однако, родители уже не гнались за красотой, ибо обожглись на ней с моим братом, когда отдали его в школу с видом на Академию художеств. Выстроенная в стиле кирпичной готики, отличавшейся от обыкновенной тем, что была на семь веков новее и намного наряднее, Академия соблазнила отца. Эта архитектура не походила на всё, что он видел в православном Киеве и в провинциальной Рязани. Крутые крыши, терракотовые стены, стрельчатые окна с тюлевыми занавесками, за которыми прятались, думалось нам, обнаженные натурщицы. Сам я никогда в Академии не был. Она считалась вотчиной только латышского свободомыслия, где процветала нефигуративная живопись балтийской фовистки по имени Майя Табака и устраивались (по сугубо непроверенным слухам) вернисажи с оргиями.
Так или иначе, Гарика, который в Рязани связался со шпаной и научился курить, определили в школу с эстетическим намеком. Глядя на уроках в окно, надеялись родители, он невольно приобщится к прекрасному. В окно Гарик смотрел, но прекрасное не помогало, и он так плохо учился, что я делал за него уроки до тех пор, как не пошел в школу сам.
Пока этого не произошло, я томился скукой и мечтой о хотя бы начальном образовании, которое я себе воображал по уже прочитанному “Незнайке”. Родители не разделяли моих грёз, но и не разоблачали их из педагогических соображений. Неопределенное мычание в ответ на мои восторги укутывало полупрозрачным занавесом тайны предстоящую мне школу, и я подозревал в ней мистерию, вроде брака, о котором имел столь же смутное представление.
Встреча, однако, откладывалась, родители тянули, чтобы дать мне шанс насладиться последней свободой. Не принимая этого аргумента, я тянулся к знаниям, как монах к веригам, и выполнял за Гарика упражнения по русскому языку, заполняя пробелы в трудных словах печатными, точнее какими умел, буквами.
Весной эта добровольная повинность становилась особенно трудной из-за Миньки. Требуя отпустить его на дачу, где нашего кота уже с марта ждали наглые юрмальские кошки, он в знак протеста мочился в валявшийся под столом портфель Гарика. Легкий запах мочи до сих пор ассоциируется у меня с русской грамматикой, но, как почки в рассольнике, этот нюанс придает ей прелесть, которую могут оценить лишь истинные знатоки и любители.
2
К моему разочарованию, 1 сентября уроков не было, но снаружи мне школа понравилась. За незатейливым и добротным желтым зданием привольно расположился стадион со взрослым футбольным полем. С другой стороны, под железнодорожной насыпью, росли ветхие ивы с глубокими дуплами. В них, как я вскоре выяснил, прятались курившие школьники.
На следующий день я вошел в вестибюль, отравленный запахом еще не просохшей, напоминавшей о лете зеленой краски. Первым меня встретил похожий на ангела курчавый Ленин. (Много лет спустя, уже в Америке, я подружился с Мишей Бланком, который выглядел точно так же, только был больше.) Второй была гардеробщица. Толстая и миролюбивая, она вскоре стала моим единственным утешением, и мне стыдно, что я забыл ее имя-отчество. Зато я запомнил свою первую учительницу Ираиду Васильевну и ничего ей не простил.
Чтобы понять весь ужас происшедшего с тех пор, как я вошел в класс (1 “В”), я должен объяснить, чего ждал от школы. В моих глазах она была истинным (в отличие от ложных, с крестами) храмом. В нем, естественно, поклонялись знаниям, которые были захватывающей игрой, как футбол, праздничным ритуалом, как Новый год, бескорыстной любовью, как к Миньке. Но главное – знания обещали переход в иной, потусторонний, мир, где росла душа, отрываясь от тела.
На самом деле в школе тело отрывалось от души и становилось единственно важным, как я выяснил еще до звонка, получив моим же портфелем по кумполу.
Второй школьный урок мне преподала Ираида Васильевна, видевшая во всех нас малолетних преступников. Бесправные и неполноценные, мы постоянно нарушали закон: вертелись, щипались, шептались, а один (если верить дневнику, им был я) даже мяукал на уроке. И как его (меня) не понять, если нас, как Миньку, держали взаперти, за глухими, хоть и застекленными дверями, не пуская в весенний сад, где растет древо познания с румяными плодами из Жюль Верна.
Школьные знания начинались с прописей и кончались двойкой. Между двумя точками одной кривой случались, как по пути к Голгофе, остановки. Мерзкая перьевая ручка с пером-уточкой, эбонитовая чернильница с лживым названием “непроливайка”, подобострастный смех соузников над идиотскими шутками учительницы, тапочки для физкультуры, из-за которых все узнали, что я не умею завязывать шнурки, и, конечно, изнурительная скука знаний: “жи-ши пиши через и” – а