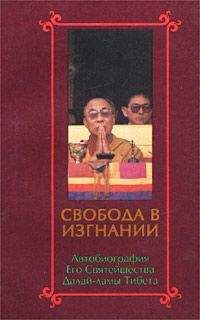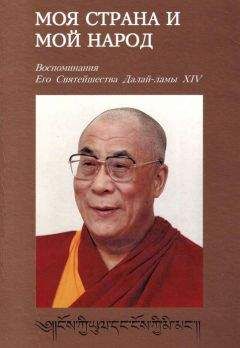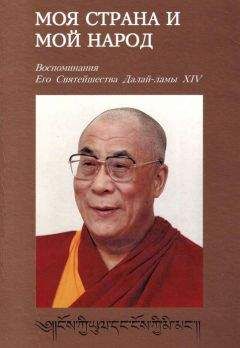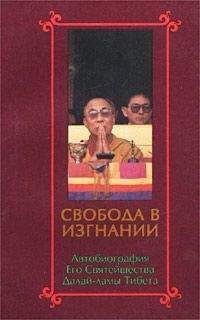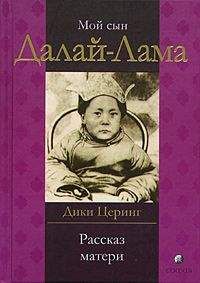За день до моего отъезда из Китая в Тибет, весной 1955 года, я присутствовал на собрании Постоянного Комитета. Лю Шао-ци, который председательствовал на нем, произнес уже половину своей речи, когда влетел мой офицер безопасности и подбежал ко мне. "Председатель Мао хочет видеть вас немедленно. Он ждет вас", — объявил он. Я не знал, что сказать. Я не мог тут же встать и уйти с собрания, а Лю не подавал никаких признаков того, что хочет передохнуть. "В таком случае, — ответил я, — вы должны пойти и извиниться за меня". Что он сразу и сделал.
Мы отправились прямо в офис Мао, где он, действительно, ждал меня. Предстояла наша последняя встреча. Он объявил, что хочет дать мне некоторые советы по управлению прежде, чем я уеду в Тибет, и начал объяснять, как организовать собрания, как добиться, чтобы люди высказывали свое мнение, и как решать ключевые вопросы. Это была превосходная информация, и я делал торопливые записи, как всегда, когда мы встречались. Он продолжал говорить, что коммуникации являются жизненно важной составной частью любой формы материального прогресса, и подчеркнул, что важно заботиться о том, чтобы как можно больше тибетцев обучалось в этой области. Он добавил, что хотел бы иметь возможность передавать свои послания мне и делать это через тибетца. Наконец, он придвинулся ко мне ближе и сказал: "Знаете ли, мне нравится ваш подход. Религия — это яд. Во-первых, она уменьшает население, потому что монахи и монахини не должны жениться, а во-вторых, она пренебрегает материальным прогрессом". При этих словах я почувствовал, что мое лицо вспыхнуло, и вдруг я ощутил страх. "Так, — подумал я, — ты еще и разрушитель Дхармы, кроме всего прочего".
Был уже поздний вечер. Когда Мао произнес эти роковые слова, я наклонился вперед, как будто бы что-то записываю, наполовину скрыв свое лицо. Я надеялся, что он не заметит того ужаса, который я чувствовал: это могло бы подорвать его веру в меня. К счастью, на этот раз Пунцог Вангьел не присутствовал в качестве переводчика. Если бы он был, я уверен, он обнаружил бы мои мысли — к тому же после встречи мы всегда обсуждали все между собой.
Несмотря на это, я не мог долго скрывать свои чувства. Хорошо, что всего через несколько минут Мао закончил беседу. Я почувствовал огромное облегчение, когда он встал и пожал мне руку. Удивительно, его глаза были полны жизни, в них не было никаких признаков усталости несмотря на поздний час. Мы вышли вместе, стояла ночная тишина. Мой автомобиль дожидался меня. Он открыл и закрыл за мной дверцу. Когда машина тронулась, я обернулся, чтобы помахать рукой. Мой последний взгляд на Мао запечатлел его стоящим на холоде без шляпы и без пальто и машущим рукой.
Страх и удивление уступили место замешательству. Как он мог составить такое неверное обо мне мнение? Как мог он подумать, что я не религиозен до самой глубины души? Что заставило его думать иначе? Я знал, каждый мой шаг фиксировался: сколько часов я сплю, сколько чашек риса я съел, что сказал на каждом собрании. Без сомнения, анализировался, а затем передавался Мао еженедельный отчет о моем поведении. Если это было так, то он, безусловно, не мог не знать, что я каждый день проводил по крайней мере четыре часа в молитве и медитации и, кроме того, все время, пока я был в Китае, получал религиозные наставления от моих учителей. Он также должен был знать, что я усердно готовился к последним экзаменам на высшую монашескую степень, до которых оставалось не так уже много лет, шесть или семь самое большее. Я не мог понять этого.
Единственным возможным объяснением было то, что он неверно истолковал мой большой интерес к научным вопросам и материальному прогрессу. Я, действительно, хотел модернизировать Тибет до уровня Китайской Народной Республики, и у меня, действительно, по существу научный склад ума. Так что это могло быть вызвано только тем, что Мао по своему незнанию буддийской философии не был знаком с наставлением Будды о необходимости для всякого практикующего Дхарму самостоятельно проверять ее правильность. По этой причине я всегда без предубеждения относился к истинам и открытиям современной науки. Вероятно, именно это и навело Мао на ложную мысль, что религиозная практика для меня не более чем ширма или привычка. Но каков бы ни был ход его мыслей, теперь я знал, что он составил обо мне совершенно неверное мнение.
На следующий день я отправился в обратный путь на родину. Теперь, когда было закончено строительство Цинхайского шоссе, передвигаться можно было быстрее, чем в прошлом году. Я использовал возможность останавливаться на два-три дня в разных местах, так что смог встретиться с большим числом соотечественников и рассказать им о своих впечатлениях от Китая и о надеждах на будущее. Несмотря на то, что мне пришлось пересмотреть свое мнение о Мао, я все еще считал его великим лидером и, самое главное, искренним человеком. Он не был обманщиком. Поэтому я твердо верил, что пока китайские чиновники в Тибете выполняют его указания, и в том случае, если он будет их четко контролировать, есть все основания для оптимизма. Кроме того, что касается меня, я считал, что единственным разумным подходом был бы положительный. В отрицательном не было никакого смысла: это только ухудшило бы ситуацию. Конечно, не многие из моего окружения разделяли такой оптимизм. Мало кто из них получил благоприятное впечатление от Китая, они боялись, что жесткие методы коммунистов приведут к репрессиям в Тибете. Кроме всего прочего, их еще встревожила история с высокопоставленным деятелем китайского правительства по имени Ган Кун. По слухам, он был настроен критически к Лю Шао-ци и за это убит самым зверским образом.
Вскоре и у меня самого появились новые сомнения. Когда я посетил Ташикел на самом крайнем востоке Тибета, там собралось очень много людей. Немало тысяч народу пришло сюда, чтобы получить возможность повидать меня и выразить свое уважение. Я был глубоко тронут их безграничной преданностью. Однако через некоторое время меня неприятно поразило известие, что китайские власти ввели людей в заблуждение, сказав, будто я приеду на неделю позже, чем это было на самом деле. Они солгали, назвав не ту дату, чтобы не дать людям увидеть меня. В результате, еще тысячи людей собрались, когда я уже уехал.
Другой неприятностью было параноидальное отношение китайцев к моей личной безопасности. При посещении моей родной деревни они настояли, чтобы я не принимал никакой пищи ни от кого кроме моих личных поваров. Это означало, что я не мог принять ничего из подношений моих земляков, даже если кто-то из них принадлежал к моей собственной семье, члены которой еще жили в Такцере. Как будто кому-нибудь из этих простых религиозных преданных людей могло когда-нибудь прийти в голову попытаться отравить Далай Ламу. Моя мать была очень огорчена. Она не знала, что им сказать. Когда я разговаривал там с тибетцами, спрашивая, как они живут, они отвечали: "Благодаря Председателю Мао, коммунизму и Китайской Народной Республике мы очень счастливы", — но на глазах у них были слезы.