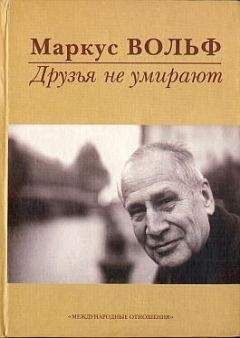Плюрализм мнений - это было одним из его неотъемлемых требований. Мои соображения о том, что это невозможно из-за враждебности Запада, он не принимал: «Вы должны быть достаточно сильными, чтобы допускать и другие точки зрения».
Его занятия основами общественного развития уводили его все дальше от «Я-общества», как он называл общество капитализма, к «Мы-обществу». Для него гораздо больше, чем для других либералов, наряду с экологическими проблемами, требования социальной справедливости относились к важнейшим требованиям современности. В социалистических странах он видел добрые намерения, которые, однако, не соответствовали реальностям социализма.
Когда его партия согласилась с двойным решением НАТО, он вышел из нее и присоединился к движению за мир. По случаю его 90-летия Лейпцигский университет имени Карла Маркса пригласил его для выступления. Возникло замешательство, когда в его речи прозвучали слова: «Роза Люксембург в вопросе о свободе соответственно констатировала, что под этим следует понимать свободу других. К этому мне нечего добавить! Нащ народ на собственном опыте выстрадал понимание того, к чему это ведет, когда преступные идеи становятся девизом государства». В то время в ГДР этот тезис Розы Люксембург оставался на вооружении диссидентов, которые, впрочем, почти совсем не занимались остальным творчеством этой великой политической фигуры. Уильям своим приездом в Лейпциг и этими словами подчеркнул свою независимость от обеих сторон. Одним из последних подарков, который он сделал мне в знак нашего взаимопонимания, было репринтное издание годовых комплектов журнала «Вельтбюне» за прежние годы.
Постоянным предметом наших бесед были записки об истории его жизни, идею написания которой предложил и постоянно поддерживал я. Я опасался, что это может так и остаться благим пожеланием, и поэтому мы оба записывали беседы на видеокамеру. Его вдохновение и жизненная энергия казались неисчерпаемыми. В заметках в моем дневнике отражено мое восхищение удивительным состоянием его здоровья. Никогда я не слышал от Уильяма жалоб на болезни. При наших встречах он умеренно ел и пил, иногда упоминал о повышенном сахаре, что было естественно в его возрасте, но решительно отвергал всякие ограничения по возрасту, особенно если они касались езды на автомобиле, его истинной страсти. Напрасно я пытался уговорить его не ездить самому за рулем на большое расстояние между Берлином и Бонном. Не удалось отговорить его и от покупки нового, особенно скоростного БМВ. Спорить с ним и по этому поводу было бесполезно.
После моего официального ухода со службы прошел год, когда пришло известие о его смерти. У меня было такое чувство, что я потерял своего близкого друга. Хотя он и прожил прекрасную долгую жизнь - 92 года, многие из наших общих для нас целей так и остались не достигнутными. Тем не менее, он ушел из жизни с чувством исполненного долга. В этом ему можно позавидовать.
После смерти Уильяма 2 сентября 1987 года именно то общество, от которого он давно отошел, нашло слова признания. В письме с соболезнованиями президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера говорится:
Его дух был свободен и молод до глубокой старости. Его жизнь определялась убежденностью демократа, который без колебаний решительно выступал за свободу и демократию. Он приносил жертвы там, где считал нужным, отстаивая свои основополагающие ценности. Его слово, как бы неудобно оно часто ни было, значило очень много. Оно находило слушателей далеко за пределами его собственной партии. Он не боялся конфликтов. Его всегда вдохновляло стремление преодолевать то, что разделяло не только поколения, но и немцев в разделенном отечестве.
Дорогая Соланж, дорогая Мириам, дорогой Чарли, Морис ушел от нас - к сожалению, очень рано. Смерть освободила его от долгих мучений. Как это ни верно, любое слово кажется слабым утешением.
Для нас Морис был верным другом, каких мало, он был близок нам, как родной сын.
Морис оставляет в нас воспоминание как о чудесном, высокоодаренном человеке. Многое нашло отражение в его статьях, книгах, фильмах и телевизионных передачах. Все это не может возместить Вам понесенную утрату.
В тот незабываемый вечер в Вашей парижской квартире, дорогая Соланж, мы чувствовали большую любовь и прочную сплоченность в Вашей семье. Морис любил Вас больше всего. Он не стеснялся говорить о своей большой любви к матери. Мы обнимаем Вас всех с самыми добрыми мыслями о Морисе. Во вторник мы будем с Вами.
Из-за воспаления легких в тот вторник, 5 января 1999 года, я не мог быть на похоронах. В прессе сообщалось, что на отдаленном кладбище собрались многие сотни людей, женщины и мужчины различного социального положения, различного происхождения и различных профессий. Такой же необычной, как и сам Морис, умерший в возрасте пятидесяти лет, была и эта траурная церемония. Конечно же, пришли многочисленные участники событий шестьдесят восьмого года, многие даже в этот день -в застиранных джинсах и заношенных пуловерах. Морису бы это понравилось. Буржуа - участники церемонии были одеты в строгие, преимущественно черные костюмы, латиноамериканцы, главным образом из Чили и с Кубы, сторонники Фронта национального освобождения из Алжира, депутаты, ветераны Сопротивления, киношники, журналисты, актеры и популярные певцы, троцкисты, коммунисты -все они собрались у его могилы. Пожилых евреев - друзей Соланж, одетых в кипы, нельзя было не заметить, как и известного в Париже католического священника в сутане.
После похорон пестрое общество до раннего утра следующего дня поминало на Монмартре своего и нашего столь же яркого и блистательного друга Мориса. Цыганский ансамбль сменяла группа рок-н-роллеров, слышалась латиноамериканская музыка, исполняли и экспериментальную музыку. Кто-то из друзей читал стихи, показывали клипы, где был снят Морис. Те, кто рассказывал об этом событии, описывали эту ночь, как будто они переселились в более счастливое время и все были в этом будущем, словно зачарованные.
Соланж так тяжело переживала смерть сына, что в своей боли даже не восприняла ни причин нашего отсутствия на погребении, ни слов нашего сочувствия. «Приходите, приходите! Мой Морис, мой Морис…»
У Соланж, должно быть, были очень глубокие отношения с сыном. Это почувствовали Андрея и я, когда приезжали на показ нашего совместного фильма и когда Морис пригласил нас на ужин к своей любимой «мамичке». Он был очень взволнован и в то же время очень горд, что его мама смогла так замечально справиться с обязанностями еврейской мамы. Мы знали о ее судьбе, о том, что она пережила Освенцим, и нам было даже неловко за оказанное нам внимание.