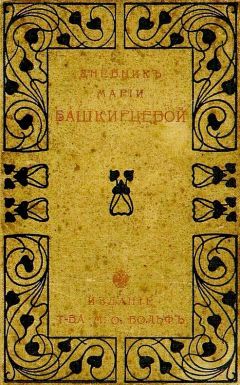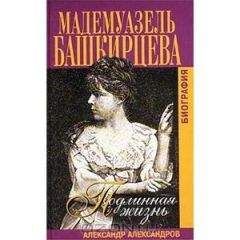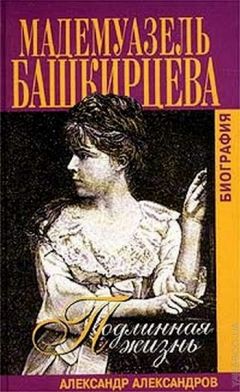И я села на последней ступеньке маленькой лесенки, в глубине коридора. Он стал на колени.
Каждую минуту мне казалось, что кто-то идет, я неподвижно застывала, содрогаясь от каждой капли дождя, ударявшего в стекла.
— Да это ничего, — говорил мой нетерпеливый обожатель.
— Вам хорошо говорить! Если бы кто-нибудь пришел, вы будете польщены, а я пропала бы!
Закинув голову, я смотрела на него сквозь ресницы.
— Со мной? — сказал он, поняв мои слова в другом смысле, — со мной? Я слишком люблю вас, вы можете быть вполне спокойны.
Я протянула ему руку, услышав эти благородные слова.
— Разве я не был всегда приличен и почтителен.
— О, нет, не всегда. Раз вы даже хотели меня обнять.
— Не говорите об этом, прошу вас. Ведь я так просил вас простить меня. Будьте добрая, простите меня.
— Я простила вас, — сказала я потихоньку.
Мне было так хорошо! Так ли это бывает, думала я, когда любят? Серьезно ли это? Мне все казалось, что он сейчас рассмеется, — так он был сосредоточен и нежен.
Я опустила глаза перед этим необычайным блеском его глаз.
— Ну, видите, мы опять забыли говорить о делах; будем серьезны и поговорим.
— Да, поговорим.
— Во-первых, как быть, если вы уезжаете завтра? Не уезжайте прошу вас, не уезжайте!
— Это невозможно; тетя…
— Она такая добрая! Останьтесь.
— Она добра, но она не согласится… И поэтому — прощайте… может быть навсегда!
— Нет, нет-же, ведь вы согласились быть моей женой.
— Когда?
— В конце этого месяца я буду в Ницце. Если вы согласитесь на то, чтобы я удрал, сделав долг, я поеду завтра-же.
— Нет, я этого не хочу; в таком случае я вас больше не увижу.
— Но вы не можете помешать мне ехать безумствовать в Ниццу.
— Нет, нет, нет, я вам это запрещаю!
— Ну, так надо ждать, чтобы мой отец дал мне денег.
— Послушайте, я надеюсь, что он будет рассудителен.
— Да он ничего не имеет против, мать говорила с ним; но если он не даст мне денег? Вы знаете, как я зависим, как я несчастлив!
— Потребуйте.
— Дайте мне совет, вы, рассуждающая как книга, вы, говорящая о душе, о Боге; дайте мне совет!
— Молитесь Богу, — говорю я, подавая ему мой крест, и готовая рассмеяться, если он примет это в шутку, и соблюсти свой строгий вид, если он примет это серьезно.
Он увидел мой невозмутимый вид, приложил крест ко лбу, и опустил голову в молитве.
— Я помолился, — сказал он.
— Правда?
— Правда. Но дальше… Итак мы поручим это барону Висконти.
— Хорошо.
Я говорила «хорошо», а думала: «это мы еще посмотрим».
— Но это еще нельзя сделать так скоро, — сказала я.
— Через два месяца.
— Вы смеетесь? — спросила я, как будто это было совершенно невозможно.
— Через шесть.
— Нет.
— Через год?
— Да через год. Вы подождете?
— Если нужно; только бы я мог видеть вас каждый день.
— Приезжайте в Ниццу, потому что через месяц я уезжаю в Россию!
— Я поеду за вами.
— Это невозможно.
— Почему?
— Мать моя не захочет.
— Никто не может помешать мне путешествовать.
— Не говорите глупостей.
— Но ведь я вас люблю!
Я нагнулась к нему, чтобы не потерять ни одного его слова.
— Я всегда буду любить вас, — сказал он. — Будьте моей женой.
Мы входим в банальности влюбленных, банальности, которые становятся божественными, когда люди действительно полюбили навсегда.
— Да, право, — говорил он, — это было бы так хорошо — прожить жизнь вместе, у ваших ног… обожая вас… Мы оба будем стары, так стары, что будем нюхать табак, и все-таки всегда будем любить друг друга. Да, да, да… милая!..
Он не находил других слов, и эти слова, такие обыкновенные, становились в его устах величайшей лаской.
Он смотрел на меня, сложив руки. Потом мы рассуждали, потом он бросился к моим ногам, крича задыхающимся голосом, что я не могу его любить, как он меня любит, что это невозможно. Потом он захотел, чтобы мы признались друг другу в своем прошлом.
— О! ваше прошлое, милостивый государь, меня не интересует.
— О! скажите мне, сколько раз вы любили?
— Раз.
— Кого?
— Человека, которого я не знаю, которого я видела десять или двенадцать раз на улице, который не знает о моем существовании. Мне тогда было двенадцать лет и я никогда с ним не говорила.
— Это сказка!
— Это правда!
— Но ведь это роман, фантазия; это невозможно, это тень какая-то!
— Да, но я чувствую, что я не стыжусь этой любви и что он стал для меня чем-то вроде божества. Я ни с кем его не сравниваю и не нахожу для этого никого достойного.
— Где же он?
— Да я не знаю. Очень далеко; он женат.
— Вот безумие!
И мой чудак Пиетро имел весьма недоверчивый и пренебрежительный вид.
— Да это правда. И вот — я и люблю вас, но это уж не то.
— Я вам даю все мое сердце, а вы мне даете только половину своего. — говорил он.
— Не просите слишком многого и постарайтесь удовлетвориться.
— Но это ведь не все? Есть еще что-нибудь?
— Это все.
— Простите меня, но позвольте мне на этот раз вам не поверить. (Как вам понравится такая испорченность!)
— Нужно верить правде.
— Не могу.
— Ну, тем хуже! — воскликнула я, рассердившись.
— Это превосходит мое понимание, — сказал он.
— Это потому, что вы очень испорчены.
— Может быть.
— Вы не верите тому, что я еще никогда не позволяла поцеловать себе руку?
— Простите, но я не верю.
— Сядьте подле меня, — говорю я, — поговорим и скажите мне все.
И он рассказывает мне все, что ему говорили и что он говорил.
— Вы не рассердитесь? — говорит он.
— Я рассержусь только в том случае, если вы что-нибудь скроете от меня.
— Ну, так вот что! Вы понимаете — наша семья здесь очень известна…
— Да.
— А вы иностранцы в Риме.
— Что же из этого?
— Ну, так моя мать написала в Париж разным лицам.
— Это вполне естественно; что же обо мне говорят.
— Пока ничего. Но, что бы там ни говорили, я буду вечно любить вас.
— Я не нуждаюсь в снисхождении…
— Теперь, — говорит он, — затруднение в религии.
— Да, в религии.
— О! — протянул он с спокойнейшим видом. — Сделайтесь католичкой.
Я остановила его очень резко.
— Хотите, чтобы я переменил религию? — воскликнул А…
— Нет, если бы вы это сделали, я бы стала вас презирать.
В действительности я сердилась бы только из-за кардинала.
— Как я вас люблю! Как вы прекрасны! Как мы будем счастливы!