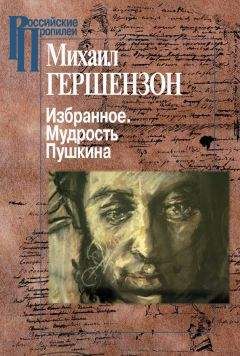и т. д.
Кто это говорит? кто кого спрашивает? Ведь здесь ничего понять нельзя. А так эти стихи и печатаются искони. Но стоит прочитать их внимательно, и они загораются ясным и острым смыслом. Это – диалог, его можно напечатать так:
Поэт:
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой».
Критик:
«Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить!
И песенкою нас веселой позабавить?»
Поэт:
«Смотри, какой здесь вид»
и т. д.
Поэт отвечает желчно, с силой, – оттого резко ломается и ритм, так что вместо правильного чередования мужских и женских попарно рифм рядом оказываются две пары женских: оставить – позабавить, убогий – отлогий. – Вот пример Пушкинских нелепостей, живущих нашим непониманием. Странный и анекдотический «Домик в Коломне» – другой пример такого же рода.
Понять «Домик в Коломне» можно, только погрузившись сочувственно в настроение, которое переживал Пушкин в дни создания этой поэмы. Она написана в октябре 1830 года в Болдине; под 12-й строфой ее в черновой рукописи значится дата: 5 октября, под последней —10 октября. При быстроте, с какою он писал в ту осень, когда например «Метель» была окончена 20 октября, «Скупой рыцарь» 23 октября, «Моцарт и Сальери» 26 октября, «Каменный Гость» 4 ноября, он должен был начать «Домик в Коломне» числа 3-го или даже 4-го. Следовательно «Домик в Коломне писался приблизительно с 4 по 10 октября.
За десять дней, с 1 по 10 октября, Пушкин написал, – по крайней мере, насколько мы достоверно знаем, – кроме «Домика в Коломне», еще 4 стихотворения. Они датированы так: 1 октября, в день возвращения от кн. Голицыной, – цитированное выше стихотворение «Шалость»; 5-го – «Расставание», 7-го – «Паж или 15-летний король», 9-го – «Я здесь, Инезилья», наконец, 5-го – 10-го «Домик в Коломне». Значит, последние три стихотворения писаны в промежутки «Домика в Коломне». Из них одно – жгучее воспоминание о какой-то женщине, прежде страстно любимой и любимой еще до сих пор, – «Расставание»:
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Остальные два (как и написанные, вероятно, тоже в Болдине «Пред испанкой благородной» и «Пью за здравие Мери») несомненно были внушены Пушкину его новым, необычно чистым чувством к невесте и добродушной насмешкой над самим собой, тридцатилетним влюбленным, – то есть над своей юношеской влюбленностью и рыцарской верностью[24]. Это совмещение чувств, казалось бы, противоположных, было неслучайно.
В эти Болдинские уединенные месяцы Пушкин переживал весьма сложное настроение. Он был влюблен – но эта влюбленность резко отличалась от его прежних многочисленных увлечений. Наталья Николаевна была для него не только предметом умиленного обожания и предметом страсти: оба эти чувства он и раньше питал к другим женщинам; ново было то, что с любовью к Наталье Николаевне в его уме неразрывно связалась новая для него мечта о счастии. Так он сам многократно определял свое чувство в эту осень. До сих пор он легко, а иногда и трудно, обходился без счастия, теперь ему страстно хотелось его. Почему? – об этом он не спрашивал себя. В нем уже некоторое время властно звучал этот зов, и он подчинялся ему, как бы неоспоримому приказу; подчинялся, так сказать, против своей воли, потому что знал (и писал об этом своим друзьям), что счастье – не для него, что счастье трудно строить, и притом оно в самом себе вмещает рабство. Его страшила предстоящая семейная жизнь, ему до боли жаль было своей золотой независимости, – и все-таки он, как обреченный, шел вперед, куда не хотел: хлопотал о свадьбе, хотя минутами, ослабевая, готов был стремглав убежать назад, воспользоваться каким-нибудь предлогом, чтобы расстроить свадьбу, как справедливо подозревали его друзья. Такой фатализм в отношении собственного духа был ему всегда присущ, но никогда еще внутренний голос не понукал его так настойчиво и никогда разлад между этим как будто сверхличным повелением и личной волею не был в нем так силен, как теперь. Таков был один водоворот его тогдашнего настроения.
А отсюда, с рубежа новой жизни, где он стоял, готовясь перешагнуть, – его «сердечная мысль» невольно влеклась назад, в его прошлое. Там была свобода (стихотворение «Цыганы», будто бы «с английского», август 1830 года), и там сиял незакатно образ той единственно-любимой женщины, чье имя нам неизвестно («Расставание» 5 октября, «Заклинание» 17 октября, «Для берегов отчизны дальной» 27 ноября 1830 г., все три в Болдине); и столько было мучительного и вместе сладкого в этих воспоминаниях, что именно они исторгали из лиры Пушкина в эту осень самые острые, самые жгучие звуки ужаса, боли, нежности, умиления, точно вопли кающегося преступника.
Между тем как эти противоречивые чувства глубоко волновали его дух, – жизнь на поверхности бурлила и строилась самозаконно, и бесчисленными мелкими остриями проникала в душу и больно ранила ее, как будто глубь, клокотавшая темной бурею, волшебно скопляла реальную грозу над головою, и оба волнения скрещивались, взаимно разъяряясь, и совместно творили ад в душе Пушкина.
Уезжая из Москвы, он рассчитывал пробыть в отлучке 25 дней. Теперь этот срок кончился; оставаться дольше в Болдине было для Пушкина во всех отношениях мучительно; главное же – отсрочка лишала его надежды на дальнейшее получение писем от невесты. Она и то писала редко и скупо, а с концом назначенного им трехнедельного срока уже по праву должна была не писать. Надо было во что бы то ни стало возвращаться в Москву, – а вокруг Болдина свирепствовала холера и по пути в Москву уже быстро, один за другим, устраивались карантины, да погода испортилась и дороги стали непроездными. Он решил все-таки выехать 1 октября, хотя знал, что придется пробыть в пути не меньше месяца. Накануне, 30 сентября, он писал невесте: «Вот я и совсем готов почти сесть в экипаж, хотя мои дела не кончены и я совершенно пал духом. Вы очень добры и обещаете мне задержку в Богородицке не более 6-ти дней. Мне объявили, что устроено 5 карантинов отсюда до Москвы, и в каждом мне придется провести 14 дней; сосчитайте хорошенько и потом представьте себе, в каком я должен быть сквернейшем настроении! К довершению благополучия, начался дождь, с тем, конечно, чтобы не переставать до самого санного пути. Если что может меня утешить, то это – мудрость, с которою устроены дороги отсюда до Москвы: представьте себе, окоп с каждой стороны, без канав, без стока для воды; таким образом, дорога является ящиком, наполненным грязью; зато пешеходы идут весьма удобно по совершенно сухим тропам вдоль окопов и смеются над увязшими экипажами. Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров – мы только и видим это». И дальше: «Не смейтесь надо мною, так как я бешусь. Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня, и эта чума с ее карантинами, – разве это не самая дрянная штука, какую судьба могла придумать. Мой ангел, только одна ваша любовь препятствует мне повеситься на воротах моего печального замка»…