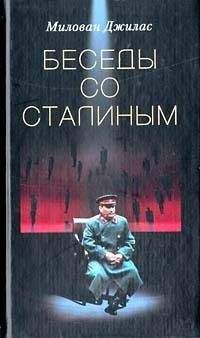Слева от меня сидел молчаливый Молотов, а справа говорливый Жданов. Последний рассказал о своих контактах с финнами и с восхищением подчеркнул их пунктуальность в доставке репараций.
– Все вовремя, отлично упаковано, великолепного качества. Мы допустили ошибку, не оккупировав Финляндию. Все было бы в порядке, если бы мы это сделали, – заключил он.
Молотов:
– А, Финляндия – это мелочь.
Как раз в то время Жданов проводил встречи с композиторами и готовил «постановление» о музыке. Он любил оперу и походя спросил меня:
– У вас в Югославии есть опера? Удивившись его вопросу, я ответил:– В Югославии оперу ставят в девяти театрах! – В то же время я подумал: как же мало они знают о Югославии. В самом деле, даже незаметно, чтобы она их интересовала, за исключением того, что это – данная географическая местность.
Жданов был единственным, кто пил апельсиновый сок. Он объяснил мне, что делает это из-за больного сердца.
– Насколько серьезна ваша болезнь? – спросил я.
Со сдержанной улыбкой он ответил с присущим ему притворством:
– Я могу в любой момент умереть, а могу прожить очень долго. – Он явно выказывал преувеличенную чувствительность, реагировал быстро и слишком легко.
Только что был опубликован новый пятилетний план. Не обращаясь ни к кому конкретно, Сталин заявил, что зарплата учителей должна быть увеличена. А потом сказал мне:
– У нас очень хорошие учителя, но зарплата у них низкая – мы должны что-то сделать.
Все пробормотали слова согласия, а я не без горечи подумал о низкой зарплате и об ужасных условиях, в которых жили югославские работники культуры, и о своем бессилии помочь им.
Вознесенский все время молчал; он вел себя как младший среди старших. Непосредственно к нему Сталин обратился только с одним вопросом:
– Можно ли изыскать средства вне плана для строительства Волго-Донского канала?
Очень важная работа! Мы должны найти средства! Ужасно важная работа и с военной точки зрения: в случае войны нас могут вытеснить из Черного моря – наш флот слаб и долгое время будет продолжать оставаться слабым. Что в таком случае мы будем делать с нашими кораблями? Представьте себе, насколько ценен был бы Черноморский флот во время Сталинградской битвы, если бы он был у нас на Волге! Этот канал представляет собой первостепенную важность.
Вознесенский согласился, что средства найти можно, достал небольшой блокнот и сделал об этом запись.
В основном меня в личном плане давно интересовали два вопроса, и я захотел спросить у Сталина его мнение. Один был из области теории: ни в марксистской литературе, ни где-либо еще я никогда не мог найти объяснения разницы между «народом» и «нацией». Поскольку Сталин давно имел среди коммунистов репутацию знатока национального вопроса, я попросил его высказать свое мнение, отметив, что он не остановился на этом в своей книге по национальному вопросу, которая была опубликована еще до Первой мировой войны и с тех пор считалась авторитетной точкой зрения большевиков.
На мой вопрос первым ответил Молотов:
– «Народ» и «нация» – одно и то же. Но Сталин не согласился:
– Нет, ерунда! Это разные вещи! – И он начал просто объяснять: – «Нация»? Вы уже знаете, что это такое: продукт капитализма с определенными характеристиками. А «народ» – это трудящиеся люди данной нации, то есть трудящиеся с одинаковыми языком, культурой, обычаями. – И, касаясь своей книги «Марксизм и национальный вопрос», он заметил: – Это была точка зрения Ильича – Ленина. Ильич тоже редактировал книгу.
Второй вопрос касался Достоевского. С ранней молодости я считал Достоевского во многих отношениях величайшим писателем современной эпохи и внутренне никогда не мог согласиться с марксистскими нападками на него.
Сталин ответил так же просто:
– Великий писатель и великий реакционер. Мы его не публикуем, потому что он оказал бы плохое влияние на молодежь. Но – великий писатель!
Мы перешли к Горькому. Я сказал, что его величайшим произведением – с точки зрения как метода, так и глубины описания русской революции – считаю «Жизнь Клима Самгина». Но Сталин не согласился, уйдя от темы метода:
– Нет, его лучшие вещи – это те, которые он написал раньше. «Городок Окуров», рассказы, «Фома Гордеев». А что касается описания русской революции в «Климе Самгине», то там очень мало революции и только один-единственный большевик – как его звали: Лютиков, Лютов?
Я поправил его:
– Кутузов, а Лютов – это совсем другой персонаж.
Сталин заключил:
– Да, Кутузов! Революция описывается односторонне, и притом неадекватно; да и с литературной точки зрения его более ранние произведения лучше.
Мне стало ясно, что Сталин и я не понимаем друг друга и что мы не можем прийти к согласию, хотя у меня и была возможность выслушать мнения крупных литераторов, которые, как и он сам, считали именно эти произведения Горького лучшими.
Говоря о современной советской литературе, я, как в большей или меньшей степени и все иностранцы, отметил силу Шолохова.
Сталин заметил:
– Сейчас есть лучше! – и назвал два имени, одно из которых принадлежало женщине. Оба они были мне неизвестны.
Я избежал обсуждения романа Фадеева «Молодая гвардия», который даже тогда подвергался критике за недостаточную «партийность» его героев; а также «Истории философии» Александрова, которую критиковали по совершенно противоположным причинам – за догматизм, мелкость, банальность.
Жданов сообщил о замечании Сталина в отношении книги стихов о любви К. Симонова: «Надо было напечатать всего два экземпляра – один для нее и один для него!» При этом Сталин с притворной скромностью улыбнулся, а остальные расхохотались.
Вечер не смог пройти без пошлости конечно же со стороны Берии. Меня заставили выпить небольшой стакан перцовки – крепкой водки с перцем. Хихикая, Берия пояснил, что этот спиртной напиток плохо влияет на половые железы, и при этом прибег к самым непристойным выражениям. Сталин пристально глядел на меня, пока говорил Берия, и был готов расхохотаться, но сохранил серьезность, заметив мой недовольный вид.
Даже если не считать этого случая, я не мог отделаться от мысли о бросающейся в глаза схожести между Берией и официальным лицом белградской королевской полиции Вуйковичем; это даже достигло такой степени, будто я нахожусь в мясистых и влажных лапах Вуйковича – Берии.
Однако самым важным из всего я считал атмосферу, которая нависала над словами и за их пределами на протяжении всех шести часов того ужина. За тем, что говорилось, было заметно нечто более важное – что-то такое, о чем следовало бы говорить, но никто этого делать не осмеливался. Навязываемый разговор и выбор тем заставляли это нечто казаться вполне реальным, почти постижимым умом. Внутренне я даже был уверен в содержании этого: то была критика Тито и югославского Центрального комитета. В той ситуации я расценил бы такую критику как равносильную вербовке меня со стороны Советского правительства. Жданов проявлял особую энергию, но не каким-либо конкретным, ощутимым образом, а придавая определенную степень сердечности и даже близости разговору со мной. Берия глазел на меня своими затуманенными зелеными глазищами, а из его квадратного мокрого рта как будто вытекала неуклюжая ирония. Над всеми ними стоял Сталин – внимательный, исключительно сдержанный и холодный.