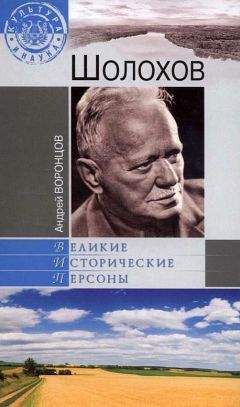Так, волею судьбы, дамы капризной, именно Осип Максимович Брик, «муж жены» знаменитого поэта, стал человеком, которому Михаил был обязан появлением на свет своего первого рассказа. Сюжет ему выдумывать не пришлось: нечто подобное описанному он пережил по освобождении из Вешенского ГПУ, когда возвращался подводой к себе в Каргинскую.
История была в чеховском духе, поэтому при ее прозаическом воплощении Михаил использовал форму короткого чеховского юмористического рассказа. Героя, секретаря волостной ячейки комсомола Покусаева, секретарь уездного комитета направил на сельскохозяйственную выставку. Попутчиком к Покусаеву напросился в укоме некто Тютиков, бывший коммунист, который вылетел из партии за пристрастие к торговлишке. Но секретарь у кома, удовлетворив просьбу Тютикова, потребовал от него ответной услуги: в пути, прикинувшись «нэпманом», «тоненько подъехать» к Покусаеву и провокационными вопросами проверить его «на вшивость». Ренегату Тютикову, по замыслу Михаила, комсомольский начальник доверял больше, чем своему младшему товарищу Покусаеву. Манеру речи Тютикова Михаил заимствовал у Осипа Максимовича: «… видите ли, я… э-э-э… занялся торговлишкой, ну, меня… одним словом, по собственному желанию выбыл из партии».
Михаил писал почти без помарок. Покрывая лист бумаги (обратную сторону дореволюционных чайных бандеролей) своим четким, «писарским» почерком, он не помышлял ни о каких стилистических красотах, да и поставленная Бриком задача их не требовала, но все же был доволен, когда с ходу ему удавались фразы типа такой: «Покусаев, свесив длинные ноги, дремал под мерный скрип телеги, и на скуластом конопатом лице его бродили заблудившиеся тени».
Рассказ заканчивался тем, что Тютиков переборщил по части антисоветских измышлений и был избит в кювете юным ленинцем Покусаевым. Таков был «обратный эффект», предложенный Михаилом. Из озорства он хотел назвать рассказик «Непопутчик», но, подумав, решил, что столь откровенно насмехаться над мэтром не стоит, и назвал — «Испытание».
Он закончил раньше остальных пяти студийцев. Брик его рассказа не взял: благодушно дымя папиросой, сообщил, что каждый прочтет свое произведение вслух. Чтение продолжалось около часу. Слушая чужие рассказы, Михаил с удовольствием убедился, что, в отличие от его «Испытания», «обратные эффекты» у всех были явно надуманные, высосанные из пальца. Это отметил и Брик, на что, откровенно говоря, Михаил не рассчитывал после знакомства с удивительной историей любви товарища Сандрарова и нэпманши Велярской.
— Товарищ Шолохов, следуя позитивным тенденциям в творчестве Чехова — наличие таковых признаем даже мы, лефовцы, — положил в основание своей истории злободневный, э-э-э, факт, взятый из современной жизни. А факт — хорошенько запомните это, товарищи, — повивальная, э-э-э, бабка революционного искусства. Два человека едут на сельскохозяйственную выставку — будущий коммунист и, э-э-э, бывший. С помощью безусловно удавшегося ему обратного эффекта товарищ Шолохов показал, кто из его типажей действительно верен делу партии, а кто отброшен на обочину, э-э-э, истории. Укажу, товарищи, на принципиальное различие ваших, э-э-э, опытов и примененного товарищем Шолоховым метода обратного эффекта. В его рассказе он не выглядит случайным, инородным, как у большинства других, э-э-э, авторов. Рассказ товарища Шолохова задуман диалектически. Секретарь укома посылает изменившего делу партии, э-э-э, Тютикова в путь вместе с преданным комсомольцем Покусаевым, рассчитывая именно на такой эффект, на наказание, э-э-э, перерожденца. Финал «Испытания» есть неожиданность для нас, но не для товарища Шолохова. Перед нами опытный образец настоящего, э-э-э, марксистского подхода к искусству, как и у меня в «Непопутчице». Поздравляю вас, товарищ Шолохов!
Михаил с удивлением слушал Брика. Изображать тонким психологом секретаря укома он вовсе не хотел, напротив, поместил его, перестраховщика, в своем сознании где-то рядом с Тютиковым, но все равно было приятно, что в его рассказе видят то, чего в нем и в заводе не было. Здесь Михаил, с самого момента знакомства с Бриком откровенно недоумевавший, что может связывать разухабистого, хулиганистого, здоровенного Маяковского (разве что «жена мужа»?) с этим томным человечком, похожим на насекомое, подумал: «Нет, голова у него, когда он не сочиняет, работает. Он, наверное, у этих футуристов за политкомиссара — вроде «реввоенсоветчиков» у Махно».
На следующее занятие Брик не пришел. Секретарь сказал, что он болен и ждет студийцев у себя дома, в Водопьяном переулке. «Маяковскогоувидим!» — оживились «молодогвардейцы». Всей компанией повалили в Водопьяный. Брик жил на четвертом этаже старого особняка. На дверях одна над другой висели две одинаковые медные таблички: на верхней было написано — «Брик», а на нижней — «Маяковский». «Жизнь втроем!» — вспомнил Михаил. Кого именно подразумевала табличка «Брик» — Осипа Максимовича или загадочную Лилю Юрьевну, либо их обоих, оставалось неясным.
Ни Маяковского, ни Лили Брик дома не было. Студийцев встретил Осип Максимович, одетый по-домашнему, в халат и тапочки. Он предложил своим питомцам снять верхнюю одежду и калоши (у кого они были) в маленькой передней, потом провел в гостиную, где усадил на венские стулья. В гостиной, тесно заставленной новой, но кустарно сработанной мебелью того времени, не было ничего, что хоть отдаленно напоминало бы о футуризме. На круглом столе, покрытом свисающей до пола скатертью с бахромой, стоял обыкновенный мещанский самовар, а в углу произрастал в кадке пыльный фикус. Под потолком висела клетка с заклейменной Маяковским в стихотворении «О дряни» канарейкой.
Брик, развалясь на диване, неторопливо начал:
— Сегодня мы собирались поговорить о связи станковой, э-э-э, живописи с искусством прозы. Впрочем… — он задумался, поблескивая лысиной. — Моя жена («Ага! — отметил Михаил. — Все-таки — его жена!») привезла из Парижа замечательную пластинку. Послушайте-ка… — Он направился своей расслабленной походкой к патефону на столике в углу, завел его, поставил пластинку.
Привычное шипенье иглы сменилось каким-то нарастающим то ли гулом, то ли ревом, то ли галдежом ипподрома. Все ждали, что за этим последует, но ничего нового, кроме тех же странных звуков, не последовало, покуда игла не заскрежетала по пустой дорожке. Осип Максимович, слушавший, блаженно улыбаясь, откинув голову на спинку дивана и прикрыв глаза, вынул пластинку из патефона, аккуратно спрятал в конверт и спросил:
— Каково?
Заметив на лицах студийцев некоторое смятение, мэтр пояснил: