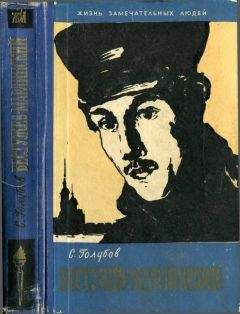но, не кончив, сунул листок за жилет.
— Еду завтра в деревню, в Хомутец, — нечего мне больше в Петербурге делать.
Рылеев вскочил.
— Как в деревню? Почему?
И утащил Муравьева в спальню к Наталье Михайловне. Там они долго объяснялись.
Отданный под суд Греч потерял занятия в министерстве просвещения и директорство над ланкастерскими школами взаимного обучения в гвардии. Ему приходилось плохо. «Сын отечества» надоел читателям и шел вяло. Либерализм Николая Ивановича линял, политическая искренность растворялась в подслуживании правительству. Дружба с Булгариным становилась существенным элементом жизни. Уже давно Пушкин называл друзей-издателей «грачами-разбойниками». Булгарин вывел Греча из неприятного положения. В конце концов невозможно сказать, кто из них был изобретательнее. И вот надворный советник Греч и отставной капитан французских войск Булгарин подали просьбу о разрешении объединить в общем ведении обоих издателей журналы: «Сын отечества», «Литературные прибавления» к нему, «Северный архив» и «Литературные листки», с тем чтобы в дальнейшем выпускать только три журнала под названиями: «Сын отечества», «Северный архив» и «Северная пчела». Дряхлый Шишков жил с дебелой полькой Лобаршевской. Булгарин скоро втесался в дом Лобаршевской, сосчитался с ней родством и через нее двинул прошение в ход. Вскоре его можно было видеть даже в кабинете самого министра. Позволение, конечно, было получено.
Бестужев с Рылеевым решили, что на 1825 год они будут издавать «Звезду» без участия книгопродавца Сленина, который в предыдущие годы снабжал их средствами на издание и потом очень крупно участвовал в барышах. Узнав об этом, Сленин предложил барону Дельвигу войти с ним в товарищество по изданию альманаха «Северные цветы». Сленин делал выгодное дело: тесная дружба Дельвига с Жуковским, Гнедичем, Крыловым, Баратынским, лицейское братство с Пушкиным обещали новому альманаху несомненный успех.
Затея Сленина и Дельвига крепко не понравилась издателям «Полярной звезды».
«Жуковский пудрится, Воейков лежит на одре недуга, разбитый лошадьми… Сленин и Дельвиг издают на 25 год «Северные цветы», точно то же, что и наша «Звезда», это спекуляция промышленности. Им завидно, что в 3 недели мы продали все 1 500 экземпляров», — так писал Бестужев в Париж своему приятелю Якову Толстому[27].
В прошлом году умерла старшая дочь Бетанкура, Каролина Эспехо. Это так поразило старика, что он начал заговариваться, спать за обедом и стругать на верстаке свою собственную руку. В июле он скончался. Бестужев провожал его гроб, равнодушно глядя на плачущую Матильду и удивляясь, как все изменилось кругом него и внутри. В конце концов он стал настоящим служакой и почти ничего не писал все лето: не было времени. С трудом удалось ему набросать к рылеевской поэме «Войнаровский» биографию Палея. Герцог никогда так ретиво не занимался делами, как в это лето.
— Терпение — добродетель верблюдов, Конрад, — говорил Бестужев Рылееву, — но разве я не человек, черт возьми?
На дорогах открывались злоупотребления одно за другим. Однако попадались только мелкие хищники, начальники же дистанций были неуловимы. Герцога это раздражало. С мая он начал рассылать Бестужева по дорогам. Приходилось иной раз скакать опрометью круглые сутки, чтобы поспеть к закладке моста или засыпке нового участка на шоссе. Ночевки в трактирах, пьяные обеды у военных инженеров, сочинение рапортов на двух языках, дежурства в промежутках между разъездами безжалостно, бессмысленно, без остатка съедали время. Герцог верил только Бестужеву, ценил его исполнительность и верный взгляд и хотел быть благодарным. Вместо отдыха он возил любимого адъютанта с собой в Петербург и после обеда за так называемым «кавалерским столом» (мечта жизни многих!) ласково говорил:
— Если вы недовольны, скажите.
Бестужев кланялся, брякая шпорами.
В ночь на 27 июля герцог приказал ему ехать в Ригу с секретным поручением к генералу Карбоньеру.
— Дайте мне слово, что вы не будете мешкать ни минуты.
Бестужев сел в коляску и поскакал в Ригу. Он был там утром 28-го и остановился в С.-Петербургском трактире. К счастью, генерал Карбоньер оказался в городе. Бестужеву пришлось провозиться с ним три недели. За это время он стал рижанином. Ему не нравились своей надутостью лифляндские дворяне, и он завел несколько приятных знакомств в купеческом кругу. Случалось ему обедать у местного генерал-губернатора маркиза Паулуччи, быть на маневрах, ездить на морские купания в Нейбате, танцевать на общественных балах. Гусарский майор Иван Бестужев, с которым он познакомился, сообщил ему, что сестры Войдзевич повыходили замуж — сперва Си-далия, а потом и старшая. И опять мысли: как все изменилось вокруг и внутри! В рижском театре Бестужева поразила пьеса «Берлин в 1924 году». Зрители смотрели с разинутыми ртами на мужика, паровой сохой поднимающего землю, на воздушный шар, исполняющий обязанности дилижанса, на почту, пересылаемую в бомбах, на растительную помаду, от которой посеянные на женской голове розы, расцветают в пять минут перед балом, на белого медведя вместо постельной собачки, на автоматического секретаря и тому «подобные глупости, якобы, вероятно, в будущем веке будущие». Он описал эти глупости в подробном письме к Прасковье Михайловне[28] из Петербурга, куда вернулся 19 августа.
В письмах к матери Бестужев много и обстоятельно говорил о том, что было для него в это время существенным и важным, кроме службы. Он с сердечным вниманием следил за ходом греко-турецкой войны. Турки овладели островом Инсарой и перерезали всех жителей-греков. К стыду Священного союза, триста европейских судов, в том числе тридцать русских, перевозили варварский десант. Было над чем задуматься! Через месяц у острова Самос греки положили на месте 16 тысяч турецких моряков. Бестужев торжествовал — победы греков были победой знамени, под которым еще ютилась свобода. Смерть Байрона в Миссолунгах [29] наполнила Бестужева смятением и болью. Он уже свободно понимал по-английски и, прилежно перечитывая страницы, полные гнева и тоски, рыдал восклицая:
— Что за огненная душа!
Он бросался на книги, как голодный на хлеб, усердно изучал Адама Смита, увлекался Нибуром, заглядывал в Гумбольдта, Паррота и Араго. Но из историков Герен и из публицистов Бентам были его любимыми авторами. Греч получал иностранные газеты, в частности гамбургскую. Рылеев, не знавший иностранных языков, иногда просматривал эти газеты и, найдя слово constitution, тотчас просил переводить. Бестужев проглатывал отчеты о политических прениях в парламентах, разбирал речи ораторов, восхищался одними и негодовал по поводу других — все, что происходило во французской палате депутатов и в hose of commons [30], занимало его нисколько не меньше, чем любого француза или англичанина. Неясные симпатии к духу нового времени, к новым людям, деятельным и сильным, давно уже мешали Бестужеву слиться полностью с блестящей, но пустой сферой старого аристократического общества. Он любил прошлое, но не за то, что оно родило настоящее, и из настоящего жадно смотрел в будущее. Теперь он начинал понимать, что будущее приходит скорей, чем уходит настоящее, и сознательно искал в арсенале истории железных аргументов в пользу прогресса. Его симпатии к третьему сословию, подвижные и мягкие прежде, превращались в постоянное и твердое убеждение. Уроки истории лишили их всякой отвлеченности, теперь это было живое знание пути, по которому предстоит идти вперед человеческому обществу. Через несколько лет Бестужев так запишет свои мысли, сформировавшиеся в критическом двадцать четвертом году: