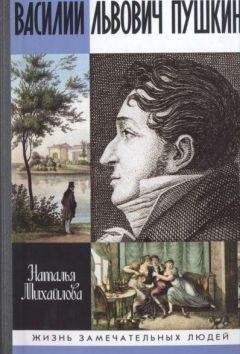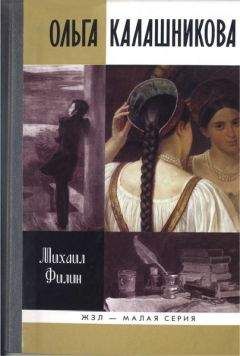Что ж, дата на крышке указана вполне правдоподобная — и данное обстоятельство, видимо, стоит учитывать в спорах о подлинности языковского ларца.
Ещё в начале прошлого столетия протоиерей В. Д. Смиречанский опубликовал в провинциальной печати интересный документ — роспись Воскресенской церкви погоста Вороничи Опочецкого уезда, составленную в 1825 году священником Илларионом Евдокимовым Раевским (известным «Шкодой»). Среди «дворовых людей» сельца Михайловского «помещицы Надежды Осиповой, жены Пушкиной» в росписи была отмечена и «вдова Ирина Родионова 71 г<ода>»[313].
Деревенская жизнь «вдовы Ирины» в годы ссылки Пушкина отнюдь не ограничивалась «домашним кругом» (VI, 78), о чём свидетельствуют новонайденные архивные материалы.
Документы Великолукского архива извещают нас о том, что няня поэта не раз участвовала в церемониях венчания местных крестьян и дворовых. Так, 5 января 1826 года она выступила в качестве свидетельницы при бракосочетании «помещика Ганибала сельца Петровского[314] дворового человека Тимофея Стефанова 33 лет с дворовой девкой Параскевой Фёдоровой 21 года». В метрической книге было прописано: «Поручители: отец венчальный дворовый человек Егор Харитонов, мать венчальная помещицы Пушкиной сельца Михайловского дворовая жена Ирина Родионова и сторонние того сельца Михайловского дворовый человек Василий Михайлов и Архип Кирилов»[315].
Другая запись в той же метрической книге гласит, что в 1826 году Арина Родионовна стала крестной матерью Варвары — первенца обвенчанных в январе дворовых людей Тимофея и Параскевы[316].
Конечно, нянюшка постоянно общалась и со своими детьми и их семьями, крепостными сельца Михайловского, но об этой стороне её жизни нам, к сожалению, ничего не известно.
Так как наша героиня была человеком, что называется, публичным, то она попала в воспоминания некоторых жителей тех мест.
Например, дочь П. А. Осиповой, Мария Ивановна, поведала в 1866 году приехавшему в Псковскую губернию историку М. И. Семевскому: «Это была старушка чрезвычайно почтенная — лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком — любила выпить… Бывала она у нас <в> Тригорском часто…»[317]
(Стоит, пожалуй, коротко прокомментировать неосторожное высказывание М. И. Осиповой, ибо оно зачастую используется в неблаговидных целях. Под хмельком Арину Родионовну иногда, действительно, видели, однако только ангажированные щелкопёры могут вещать об «алкоголизме» нашей героини. Да, вино, случалось, веселило её изнурённое сердце, дарило душе короткую, преходящую иллюзию пира — но оно не являлось болезненной, «горькой» страстью нянюшки.)
Другому археографу, К. А. Тимофееву, удалось летом 1859 года встретиться в сельце Михайловском с Петром Парфёновым, бывшим кучером поэта, «стариком лет за 60, ещё бодрым» и «толковым». В ходе долгого разговора о Пушкине собеседники уделили внимание и его старой подруге:
«— А няню его помнишь? Правда ли, что он её очень любил?
— Арину-то Родионовну? Как же ещё любил-то, она у него вот тут и жила. И он всё с ней, коли дома. Чуть встанет утром, уж и бежит её глядеть: „здорова ли, мама?“ — он её всё мама называл. А она ему, бывало, эдак нараспев (она ведь из-за Гатчины была у них взята, с Суйды, там эдак все певком говорят): „батюшка ты, за что меня всё мамой зовёшь, какая я тебе мать“.
— Разумеется, ты мне мать: не то мать, что родила, а то, что своим молоком вскормила[318]. — И уже чуть старуха занеможет там, что ли, он уж всё за ней. <…>
— А правда ли, Пётр, что Александр Сергеевич читывал няне свои стихи и сам любил слушать её сказки?
— Да, да, это бывало: сказки она ему рассказывала, а сам он ей читал ли что, не запомню: только точно, что он любил с ней толковать»[319].
Из нехитрой повести сохранившего хорошую память кучера видно, что Пушкин никоим образом не стыдился своего чувства к крепостной старухе, не прятал его от чужих глаз: он выказывал любовь к «маме» и вне дома, прилюдно.
А очередной поэтической декларацией его любви к Арине Родионовне стало стихотворение «Зимний вечер», которое датируется (согласно помете в цензурной рукописи; II, 920) 1825 годом. Пушкин дважды напечатал эти стихи при жизни[320]:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила[321];
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла[322].
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей (II, 387).
Полагаем, что «Зимний вечер» — недооценённое стихотворение. Это произведение чуть ли не космического масштаба; произведение, которое нуждается в комплексном — философическом, культурологическом, филологическом и прочем — исследовании.
Здесь мы укажем лишь на одну из принципиальных пушкинских аллюзий.
…И был вечер, «зимний вечер», когда устоявшийся мир внезапно рухнул, переродился в хаос — кружащийся, тревожный и угрюмый, полный скрытых намёков и явных угроз.
Сутью обновившегося мира стала почти беспредельная его пустота, чуть ли не тотальная ирреальность. Живые обыденные звуки, будь то звериный вой или плач ребёнка, шуршание соломы или человеческий стук в окошко, — вмиг умерли: нагрянувшая буря заглушила их или подменила субституциями. Вихрь утвердился тогда и на земле, и в поднебесье, — а тварный мир онемел и обезлюдел, то есть фактически исчез. И вроде бы возобладал непроглядный хаос повсюду, как будто переиначил на свой лад или уничтожил всё и вся — однако не сумел поглотить, разрушить одну-единственную «ветхую лачужку», и два живых и сохранивших дар слова существа уцелели, спаслись.