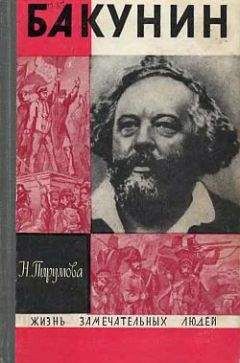В работе «Революция и контрреволюция в Германии» Маркс и Энгельс назвали Бакунина «спокойным и хладнокровным вождем» восстания. Об «удивительном хладнокровии» Бакунина пишет и Вагнер. И действительно, в самые тяжелые дни, 7—9-го числа, Бакунин проявил большую выдержку и мужество.
После того как стало известно, что к войскам короля саксонского присоединились прусские полки, что боеприпасы повстанцев почти исчерпаны, паника охватила членов правительства. Чирнер начал собирать и жечь официальные документы, а затем так же, как поляки, исчез из города. Еще ранее его бежал Тодт. Перед Гейбнером и Бакуниным — последними представителями руководства — встал вопрос, что же делать дальше. По показаниям Бакунина, Гейбнер заявил, что после своих выступлений перед восставшими «ему совершенно невозможно бежать и что он должен выдержать до конца. Я поддержал Гейбнера в этом намерении и заявил ему, несмотря на его предложение дать мне денег для бегства, что я останусь и выдержу с ним до конечного исхода дела, хотя, пожалуй, мне приходилось более других опасаться в качестве иностранца и русского».
Ночью с 7-го на 8-е к Бакунину явился Гейнце и сообщил, что утром предполагается общий штурм позиций повстанцев, который защитники баррикад не смогут выдержать. Бакунин предложил прорыв и направил Гейнце на разведку. Однако обратно тот не вернулся, так как попал (или сдался) в плен. Тогда в ратушу на совет были созваны все начальники баррикад. Один из них, Стефан Борн, предложил произвести атаку на противника и тут же единогласно был избран командующим вместо Гейнце. Но план атаки осуществить не удалось. 8-го, после того как прусские войска заняли часть улиц Дрездена, Бакунин и Борн стали разрабатывать план выхода повстанцев из города. Зайдя в этот день в ратушу, Вагнер увидел, что среди общей растерянности «один только Бакунин сохранял ясную уверенность и полное спокойствие. Даже внешность его не изменилась ни на йоту, хотя он за все это время ни разу не сомкнул глаз. Он принял меня на одном из матрацев, разложенных в зале ратуши, с сигарой во рту».[137]
Необходимость отступления Бакунин не связывал еще с полным поражением. Он рассказал Вагнеру, что дрезденские позиции мало пригодны для продолжительной борьбы и что есть смысл отступить в район Рудных гор, рабочее население которых и стекающиеся туда вооруженные отряды помогут повстанцам.
Рано утром 9-го согласно разработанному плану началось организованное отступление. Во время остановки в Фрейберге между Бакуниным и Гейбнером разгорелся спор. Гейбнер настаивал на том, что дальнейшее сопротивление бесполезно, и предлагал распустить отряды, но Бакунин убедил его в необходимости до конца остаться с восставшими и в случае поражения умереть. Следующим городом на их пути был Хемниц.
Вечером, сев в экипаж вместе с Гейбнером, Бакунин немедленно заснул и разбужен был лишь вооруженной охраной у ворот Хемница. На вопрос, кто они такие, Гейбнер назвал себя и, сказав, что едут они в гостиницу, попросил пригласить туда представителей городской власти, Ожидаемого Гейбнером восторженного приема не произошло. Напротив, вооруженные мещане смотрели на него весьма враждебно. Стража проводила путников до дверей гостиницы, а явившийся бургомистр потребовал их немедленного удаления. Гейбнер отказался. Измученный до предела Бакунин смог бросить лишь одну фразу: «Идем спать». Ночью в гостиницу ворвались жандармы. Арестованные Бакунин и Гейбнер попросили, чтобы им дали возможность несколько часов поспать, сказав, что сейчас о бегстве не может быть и речи.
Утром иод сильным военным эскортом они были доставлены в дрезденскую тюрьму.
«Саксонская следственная комиссия, — писал Бакунин, — удивлялась потом, как я дал себя взять, как не сделал попыткп для своего освобождения. И в самом деле, можно было вырваться из рук бюргеров, но я был изнеможен, истощен не только телесно, но и нравственно и был совершенно равнодушен к тому, что со мною будет. Уничтожил только на дороге свою карманную книгу, а сам надеялся… что меня через несколько дней расстреляют, и боялся только одного: быть преданным в руки русского правительства».[138]
В переживаемое нами время нужно быть последовательным и верным своим убеждениям вплоть до риска своей головой, потому что эта последовательность и эта верность составляют единственную охрану нашего достоинства. Очень трудно быть последовательным, но позорно не быть таковым.
М. Бакунин
«Часы жизни остановились…» — так писала о времени своего двадцатилетнего заключения в Шлиссельбурге Вера Фигнер. Участь Бакунина, казалось, была легче. Он просидел лишь два года в саксонских и австрийских тюрьмах, лишь семь лет в Алексеевском равелине и Шлиссельбурге и лишь четыре года в сибирской ссылке. Другим действительно приходилось труднее. Но ведь трудность не только в сроке. Главная трудность была в другом. Мог ли человек сознательно и последовательно противостоять той злой воле, которая останавливала часы его жизни? Многие не могли. Предавали себя и других, кончали самоубийством или просто сходили с ума. В биографических книгах о таких людях последняя глава — глава о времени и обстоятельствах их заключения. С Бакуниным, как и с теми другими, кто смог выдержать испытание, все иначе. Мы еще на середине его жизни, и самая деятельная и бурная ее часть впереди.
Итак, этап первый — тюрьмы Саксонии. Камера, архаический сейчас атрибут — цепи, следствия и допросы, допросы… Линия поведения. Об этом следует сказать прежде всего. Ведь для того времени, когда в активе русского революционера мог быть лишь печальный опыт большинства декабристов, когда не было никаких готовых рецептов, когда ценою моральных страданий приобретались еще первые уроки гражданственности и революционной этики перед лицом следствия, поведение каждого зависело только от личной убежденности, личной веры и личного мужества. Долгим и поистине мучительным опытом борьбы за тюремной решеткой, на следственной скамье создали русские революционеры 60— 80-х годов прошлого века правила нравственной и революционной (а не дворянской) чести.
Два главных элемента были в этом правиле: не выдавать товарищей; обращать всякое следствие, а тем более гласный суд в средство пропаганды революционных взглядов. И хотя в той позиции, которую Бакунин занял в Алексеевском равелине по отношению к Николаю I, было что-то от традиций дворянских революционеров (о чем речь ниже), в целом он вел себя с полной ответственностью, с полным сознанием значения своих показаний. Возможно, что не только убежденность и мужество, но и темперамент борца и пропагандиста толкнули его на этот путь. Свойственная ему страсть проповедовать, обращать на путь истины всех окружающих распространилась и на членов следственной комиссии. В показаниях он не только не скрывал своих взглядов, но, напротив, старался доказать неизбежность революции, обосновать право на революционную борьбу угнетенного большинства. Было ли это только наивностью? Пожалуй, нет. Скорее всего это была активная форма защиты и пропаганды, хотя и с минимальными шансами на успех.