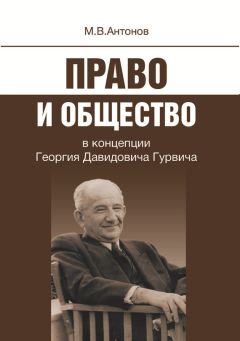Всякий процесс восприятия представляет собой в описании Бергсона своего рода кольцо, все элементы которого находятся в постоянном напряжении; постепенно происходит переход к новым состояниям, психологическим переживаниям, причем создаются все новые и новые кольца, охватывающие первое. Круг, находящийся ближе всего к воспринятому предмету (А), – наиболее узкий; последующие, расширяющиеся круги «соответствуют возрастающим усилиям интеллектуальной экспансии» (с. 224), связанным с действием памяти (см. рис. 1). Таким образом, усилие внимания приводит к воссозданию не только воспринятого предмета, но и всех тех условий, систем, с которыми он связан. Наиболее широкий «внешний круг» – это те образы-воспоминания, совокупность которых представляла бы все наше прошлое существование. Узкий же внутренний круг несет «те же воспоминания, но обедненные, все более далекие от своей индивидуальной и оригинальной формы, все более способные из-за своей банальности быть примененными к наличному восприятию и определить его, как род определяет входящее в него единичное» (с. 225). В конце концов такое редуцированное воспоминание точно накладывается на наличное восприятие, и в этот момент действие памяти приобретает наибольшую практическую значимость; она представляет здесь, по образному выражению Бергсона, «лишь лезвие, раскраивающее тот опыт, в который проникает» (там же).
Рис. 1
О – предмет; А, В, С, D – расширяющиеся круги памяти; В’, С', D' – причины и условия предмета, образующие вместе с ним систему и воссоздаваемые в процессе экспансии памяти.
Итак, полное, целостное восприятие определяется и обособляется лишь посредством слияния с образом-воспоминанием. Здесь Бергсон вновь уточняет изложенную ранее концепцию восприятия. Прежде он рассматривал восприятие в его связи с внешним предметом; теперь же, когда в сферу исследования введена память, весь процесс восприятия приобретает следующий вид: «…отдельное восприятие вызывается двумя противоположными по направлению влияниями, из которых одно, центростремительное, исходит от внешнего предмета, а другое, центробежное, имеет отправной точкой то, что мы называем “чистым воспоминанием”… Объединившись, два эти влияния образуют в точке соединения определенное и узнаваемое восприятие» (с. 240). Но это описание еще не вполне точно, поскольку для Бергсона важно, что в случае узнавания, как и любого истолкования, понимания, ведущей является идея, на которой мы основываемся, а не просто некое внешнее впечатление. Так, ассоциативная психология трактовала процесс понимания речи исходя из того, что звуки вызывают определенные воспоминания, а те, в свою очередь, соответствующие идеи. С точки зрения Бергсона, «понимать чужую речь… означает мысленно, то есть исходя из идей, восстанавливать ту непрерывность звуков, которую воспринимает ухо» (с. 232). Тогда область образов-воспоминаний предстает как особого рода «ментальные» органы, симметричные органам чувств; Бергсон сравнивает их с внутренней клавиатурой, позволяющей упорядочивать, сливая в один аккорд, впечатления от виртуального предмета, т. е. чистых воспоминаний, подобно тому как обычные органы чувств упорядочивают многообразие внешних впечатлений. Так, область слуховых образов-воспоминаний – это «ментальное ухо», и оно-то и играет ведущую роль в узнавании звуков, в силу чего сам процесс такого узнавания, как и всякого иного, «имеет не центростремительную, а центробежную направленность» (с. 242)[199].
Понятие двигательной схемы. «Логика тела»
Подобная трактовка, по Бергсону, позволяет объяснить многие накопившиеся в психологии проблемы. Если считать дух абсолютно автономным, то невозможно установить причину ряда заболеваний – глубоких расстройств внимания и памяти, возникающих в результате нарушения сенсомоторного равновесия. Вместе с тем, если выводить сложные процессы сознания, к примеру феномены воображения, непосредственно из восприятия, как его механические следствия, то становится непонятно, каким образом механическое может столь сильно изменить свою природу; потому-то и приходится прибегать к концепции мозга, в котором якобы откладываются интеллектуальные состояния. В обоих случаях не учитывается роль тела, основной функцией которого является «ограничение, в целях действия, жизни духа» (с. 273). Роль тела состоит в выборе того воспоминания, которое может дополнить и прояснить наличную ситуацию. Ведь «воспоминания не могут актуализироваться без вспомогательного моторного механизма, и для его вызова требуется особого рода ментальная установка, сама в свою очередь вписанная в телесную двигательную установку» (с. 234). По мере отработки организмом (телом) своих реакций, усложнения и оттачивания их складывается так называемая моторная, или двигательная, схема. Если вначале эти движения нечетки, то по мере повторения они развиваются и совершенствуются: повторение «заставляет тело разделять и классифицировать, помогает ему выделить существенное и одну за другой обнаруживает в тотальности движения линии, обозначающие его внутреннюю структуру. В этом смысле движение выучено с того момента, когда оно понято телом» (с. 228). Здесь Бергсон вводит непривычный термин «понимание тела», или даже «разум тела». Немного дальше он говорит и о «логике тела», не признающей недомолвок и побуждающей к тому, чтобы «все конститутивные элементы требуемого движения были один за другим показаны, а затем соединены вместе» (с. 229). Этим он объясняет упомянутые выше процессы автоматического узнавания, т. е. узнавания, на которое способно тело само по себе, когда оно машинально реагирует на некие уже знакомые ситуации. Такое узнавание – хорошо упорядоченный двигательный аккомпанемент, организованная двигательная реакция (с. 216). Подобная система движений и лежит в основе всякого узнавания.
Интересно, что при описании возможных нарушений «сенсо-моторного равновесия нервной системы» Бергсон прибегает к сравнениям и метафорам, отдаленно напоминающим фрейдовские, хотя направляющая идея у него совершенно иная. Он говорит о том, что «затемненные образы начинают выбиваться на свет», как это бывает во время сна, что они «пользуются случаем, чтобы проскользнуть в актуальное восприятие», что «настоящее вытесняет прошлое» (с. 218, 210). Здесь наблюдается известная драматизация отношения двух форм памяти, конфликт, где активная двигательная память препятствует актуализации бесполезных для действия воспоминаний.
В формировании двигательной схемы отчасти участвует и интеллект, но в существенно большей мере его участие проявляется на стадии произвольного внимания, когда к действию подключается память со своим запасом воспоминаний, актуализируемых при восприятии и включаемых в описанную выше двигательную схему. Двигательная схема служит здесь чем-то вроде каркаса, определяющего своей формой «ту форму, в которую устремляется воспринимаемая текучая масса» (с. 235). С такой позиции разрушение воспоминаний вследствие мозговых повреждений можно объяснить, по Бергсону, прекращением процесса движения, в котором актуализируются воспоминания, подобно тому как ряд явлений афазии объясняется нарушением самой двигательной схемы. Именно это доказывали, по его мнению, экспериментальные данные, на которые он многократно ссылается во второй главе книги, а вовсе не теорию о том, что воспоминания были локализованы в поврежденной части мозга и разрушились вместе с ней, как утверждали исследователи. Все гипотезы, предлагавшиеся до тех пор различными авторами (в их числе упоминается и Фрейд), он считал неудовлетворительными, поскольку, в частности, они приводили к таким усложнениям, к введению такого числа дополнительных условий, что это завершалось их «самораспадом» (с. 237). Но если отказаться от концепции мозга как хранилища воспоминаний и посмотреть на проблему под углом зрения взаимодействия двух форм памяти, то все существенно упростится и факты, наблюдавшиеся в экспериментах, получат естественное объяснение.
О сохранении прошлого. Проблема бессознательногоС мозгом непосредственно связана, утверждает Бергсон, только первая форма памяти – память-действие, или память-привычка, и связана в той мере, в какой мозг участвует в создании двигательных схем. Хотя вторая форма памяти тоже необходимым образом вовлечена в процесс познания, она независима от мозга. Поэтому, рассмотрев во второй главе проблему «память и мозг», Бергсон исследует в главе третьей процесс взаимодействия двух форм памяти в более широком плане, с точки зрения того, как память связана с духом. Он хочет теперь объяснить, как сохраняется в памяти прошлое, т. е. чистые воспоминания. Но прежде чем говорить о прошлом, нужно понять, что такое настоящее. Дальнейший ход рассуждений Бергсона сразу заставляет вспомнить Августина, столь эмоционально рассматривавшего в 11-й главе «Исповеди» проблему связи прошлого, настоящего и будущего. Чем является для меня настоящий момент? – спрашивает Бергсон. Его часто представляют как идеальное настоящее, т. е. как неделимую границу, которая отделяет прошлое от будущего. Однако, если рассматривать настоящее как математическое мгновение, тогда получается, что настоящего вообще нет. Здесь и звучат августиновские ноты: «Когда мы мыслим это настоящее как то, что должно наступить, его еще нет, а когда мыслим его как существующее, оно уже прошло» (с. 254). Такое представление связано, по Бергсону, с неверной «пространственной» трактовкой времени как рядоположенных моментов. Вопреки этому пониманию, реальное, конкретное настоящее, которое мы переживаем в своем опыте, имеет определенную длительность. «Где же расположить эту длительность? Находится ли она по ту или по эту сторону той математической точки, которую я идеально полагаю, когда думаю о мгновении настоящего? Более чем очевидно, что она располагается сразу и тут, и там, и то, что я называю “моим настоящим”, разом захватывает и мое прошлое, и мое будущее: прошлое, поскольку “момент, когда я говорю, уже отдален от меня"; будущее, потому что этот же момент наклонен в сторону будущего» (с. 246). Актуальность настоящего сосредоточена в актуальном состоянии тела как центра действия, это есть совокупность ощущений и движений, с помощью которых тело реагирует на внешний материальный мир; отсюда Бергсон делает вывод, что настоящее по природе своей сенсомоторно. А это означает, что «мое настоящее заключается в сознании, которое я имею о своем теле» (с. 247). Но вместе с тем настоящее – это и восприятие непосредственного прошлого, и детерминация непосредственного будущего, то есть незамедлительно наступающего, ближайшего действия. Из прошлого извлекаются при этом те образы, которые могут помогать такому будущему действию; именно они представляют собой образы-воспоминания, принадлежащие уже скорее настоящему, чем прошлому. Чистое же, бездействующее воспоминание, не актуализированное до поры с какой-либо практической целью, не имеет связи с настоящим и не осознается, поскольку осознание, полагает Бергсон, есть характерный признак только настоящего. Следовательно, чистое воспоминание относится к сфере бессознательного. Вновь подчеркнем: чистое воспоминание и есть то, что Бергсон называет прошлым («прошлым-в-себе»). М. Чапек, отмечая, что эта сторона бергсоновской концепции памяти часто неверно оценивалась (к примеру, Б. Рассел считал, что здесь воспоминание о прошедшем событии смешивается с самим этим событием), поясняет: «Различие между воспоминанием о прошлом событии и самим прошлым событием полностью сохраняется в бергсоновском различении souvenir-image [образа-воспоминания] и souvenir риг [чистого воспоминания]. Верно, что само воспоминание (souvenir-image) имеет характер образа и как таковое является событием настоящего', но это только заключительная фаза процесса вспоминания, благодаря которому прошлое событие (souvenir pur) продолжается в настоящем моменте, и это “продолжение прошлого в настоящем” есть подлинная суть длительности»[200].