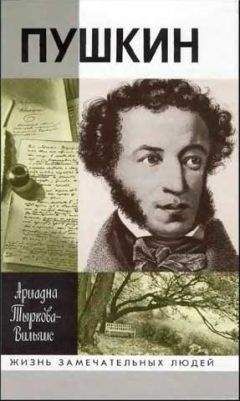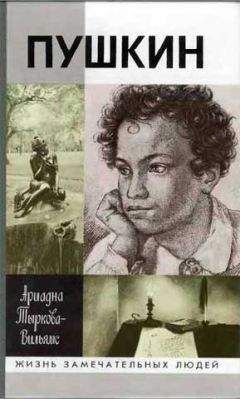В этом он не ошибся. Декабристы, несомненно, положили начало русскому революционному движению, хотя многие из них и считали себя мирными реформаторами. Через своих товарищей, занимавших видные места, заговорщики знали, что правительство растерянно, что царя нет. Они думали, что такое положение можно и должно использовать, что, прежде чем принести присягу новому императору, надо предъявить ему конституционные требования. Вечером 13 декабря, накануне дня, назначенного для присяги, заговорщики, как всегда, собрались у Рылеева. На этот раз нельзя было ограничиться разговорами, надо было принять какое-то решение, от слов перейти к делу.
Вот как М. А. Бестужев описывает этот вечер: «Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно высоко-настроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения, слова без дела, за которые многие дорого поплатились, не будучи виноваты ни в чем, ни перед кем. Как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был не хорош собою, говорил просто, не гладко, но когда он попадал на свою любимую тему, на любовь к родине, физиономия его оживлялась, черные его, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава. В этот роковой вечер, решив, быть или не быть, его лик, как луна бледный, был озарен сверхъестественным светом».
Решение вывести наутро мятежные войска на площадь было принято без всякой уверенности в успехе.
Но и в Зимнем дворце не было уверенности. В то время, как заговорщики собирались в помещении Американской компании на Гороховой, где жил Рылеев, во дворце, на другой стороне площади, собрались члены Государственного Совета. Им было приказано явиться к 8 часам. Николай Павлович хотел обеспечить себе поддержку высшего учреждения Империи. Он допускал, что войска, за две недели перед тем присягнувшие Константину, могут отказаться от новой присяги. Обмен письмами между Петербургом и Варшавой хранился в тайне. Николай Павлович оттягивал заседание Государственного Совета, рассчитывая, что Михаил Павлович может вернуться из Варшавы с формальным актом об отречении. А его все не было. Высокие сановники хорошенько не знали, зачем их собрали. А. Н. Оленин рассказывает, что «они сидели в глубоком молчании часа два или более, утомленные от ожидания и пустых между собой разговоров. Государь не появлялся». Наконец, поздно вечером, их позвали ужинать. «Сие предложение многих членов, удрученных летами и слабостью, оживило». В полночь Николай появился, прочел им письмо Константина и свой манифест о восшествии на престол и закончил словами:
«Сегодня я прошу, а завтра буду приказывать».
Но он был далеко не уверен, что ему суждено приказывать. Рано утром 14 декабря, надевая мундир, он сказал Бенкендорфу, присутствовавшему при его одевании:
«Сегодня вечером, может быть, нас обоих больше не будет на свете, но по крайней мере мы умрем, исполнив наш долг».
Все-таки день начался с присяги. В семь часов утра сенат, синод и большая часть гвардии присягнули Николаю. Он стал царем.
А на Сенатской площади, вокруг памятника Петру, строились заговорщики. Первой выступила часть лейб-гвардии Московского полка. К ним присоединились гренадеры и весь гвардейский экипаж. Солдаты плохо понимали, в чем дело, но они любили своих либеральных офицеров, за ними шли, кричали: «Конституция, конституция», не имея понятия, что это такое. Даже, говорят, кричали: «Хотим Константина и жену его Конституцию».
Михаил Бестужев рассказывает в своих мемуарах: «День был сумрачный. Ветер дул холодный. Солдаты, затянутые в парадную форму с пяти часов утра, стояли на площади уже более семи часов. Со всех сторон мы были окружены войсками, без главного начальства, потому что диктатор Трубецкой не явился, без артиллерии, без кавалерии, словом, лишенные всех моральных и физических опор для поддержания храбрости солдат. Они с необычайной энергией оставались неколебимы и, дрожа от холода, стояли в рядах, как на параде. Кюхельбекер и Пущин уговаривали народ очистить площадь, потому что готовились стрелять в нас. Я присоединился к ним, но на все мои убеждения был один ответ: «Умрем вместе с вами».
Почти все заговорщики были офицеры, но военного начальника среди них не оказалось. Двое штатских, Рылеев и Пущин, взяли эту роль на себя. Оба были друзья Пушкина. Барон Розен в своих записках рассказывает: «Рылеев как угорелый бросался во все казармы, ко всем караулам, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался с пустыми руками».
Пущин за несколько дней перед этим приехал из Москвы, чтобы принять участие в предполагаемых революционных действиях. Он, один из немногих, сохранил полное присутствие духа и отдавал солдатам приказы. Его плащ весь был прострелен пулями. Так рассказывает Е. Якушкин в предисловии к запискам Пущина. По словам обвинительного акта, Пущин «взялся ободрять войска на площади, где оставался до картечных выстрелов, расхаживая по фасам, поощряя солдат к мятежу, и, при наступлении кавалерии на чернь, скомандовал переднему фасу взять ружья к ноге».
В начале ни та, ни другая сторона не знали, что делать. Из казарм солдат вывели, а боя не было. Где неприятель, не показали. На другом конце площади смутно колыхалось очертание других воинских частей. Но ведь это были не враги, а такие же русские солдаты, как и они сами. Граф Милорадович, который за пять лет перед тем, по просьбе своего адъютанта, Ф. Глинки, тоже члена тайного общества, так добродушно обошелся с Пушкиным, все еще отказывался верить, что в русской армии могут быть мятежники. Когда он действительно убедился, что это военный бунт, он пришел во дворец и доложил, что Московский полк взбунтовался, и предложил, что сам уговорит солдат. Еще от Суворова унаследовал он упрямое доверие к солдату. Он поскакал к мятежным войскам уговаривать их вернуться в казармы и под конец скомандовал:
– Направо кругом, марш!
Знакомые слова, для многих и знакомый генеральский голос, вызвали движение в рядах. Казалось, солдаты сдадутся. Но Каховский – он был в совершенном исступлении – выстрелил в Милорадовича Князь Оболенский ткнул раненого генерала штыком. Уверяют, что Милорадович, умирая, сказал:
– Доиграна комедия. (La comédie est jouée.) Это на него похоже.
А на другом конце площади, около Зимнего дворца, где был центр правительственных сил, царило смятение. Никто не знал, что это, бунт или революция? Карамзин, который провел 14 декабря во дворце, видел, как молодая красавица Императрица вся в слезах молилась на коленях перед образом. Ее и детей только утром, под военной охраной, перевезли из Аничкова в Зимний дворец, по приказу Царя, который вместе с великим князем Михаилом Павловичем, вернувшимся ночью из Варшавы, лично руководил действиями войск против бунтовщиков. В памятной записке Николай I рассказывает, как он сам вывел бывших на карауле финляндских стрелков и построил их на площади на защиту дворца. Потом скомандовал первому батальону преображенцев, который остался верен правительству, – к атаке, в колонну, – и пешком повел их мимо здания Генерального штаба к сенату, откуда раздавались крики: «Ура Константин!» Кто-то догадался подвести Царю коня.