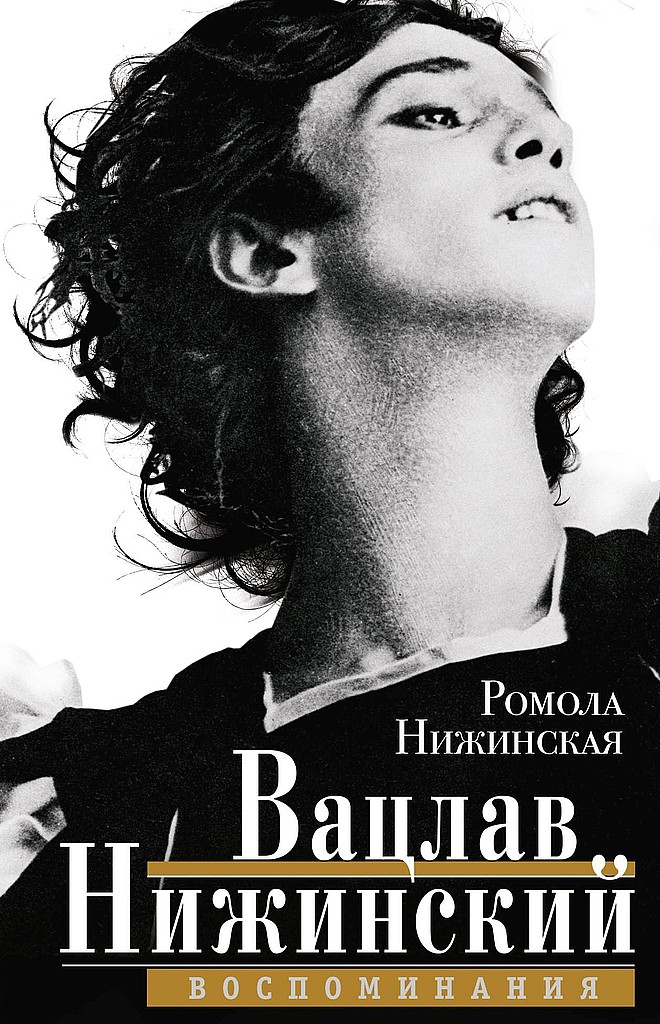или девушка, мечта или желание, что-то недостижимое, что может существовать лишь в нашем сознании. Он тонок, как стебель розы, и прекрасен, как ее раскрывающийся цветок, а в гладком бархате пурпурных лепестков этой розы сочетаются чувственность и чистота. Он долго и с бесконечной нежностью стоит возле подоконника, это Видение розы. Потом с восхитительной легкостью начинает кружиться в пространстве. Это не танец, но это и не сон: мы чувствуем все чистое, приятное, прекрасное. Здесь действительность соединяется с видением.
Одним прыжком призрак пересекает всю сцену, неся нам исполнение наших мечтаний, запах цветущего сада в июньскую ночь и лунный свет, таинственный, но невероятно успокаивающий. В этом свете он плывет — плывет так, что это зачаровывает. Вдруг оказывается стоящим сзади девушки и наполовину пробуждает ее; в этой дремоте, где сознание работает лишь наполовину, она находит свои желания, свои мечты и саму свою любовь в прекрасном облике. Призрак — чарующий, ласковый, любящий — несет ее через эфир, целомудренным жестом предлагая ей в дар сущность любви, и оживляет в ее памяти все счастливые мгновения ее самых тайных чувств на первом балу, а когда она мягко соскальзывает в кресло, падает к ее ногам, чтобы доказать свою нежную покорность. Потом одним невероятно высоким прыжком он взлетает высоко в воздух и снова танцует вокруг девушки, и его танец пробуждает в душах, как эхо, представления о самой возвышенной красоте. Девушка дремлет, послушная и верящая, но духа розы можно прижать к сердцу лишь на одно мгновение. Завоевав пространство, по которому он плавает в воздухе, дух снова, как вначале, оказывается за спиной у девушки. Он дарит ей часть недостижимого — один нежный поцелуй, а потом навсегда одним прыжком уносится в бесконечность.
Таким было «Видение розы», которое Нижинский подарил нам. Романтическое стихотворение Готье, совершенное классическое па-де-де Фокина и душа, которую вдохнул в них Нижинский.
Эта очаровательная вариация, эта чудесная картина в стиле бидермейер, созданная Бакстом, стала настоящей молитвой. Кто-то сказал Вацлаву, что от «Видения розы» человеку хочется кричать от блаженства. А сам Вацлав сказал мне: «Я хотел выразить красоту, чистоту, любовь — прежде всего любовь в божественном смысле этого слова. Искусство, любовь, природа — только крошечная частица Божьего духа. Я хотел снова понять это и передать свое чувство зрителям так, чтобы они поняли, что Он присутствует во всем. Если зрители это почувствовали, то я отразил в себе Его». Вацлав передал это чувство всем нам — тем, кто имел счастье видеть его. Мы знали, что видим не просто выступление артиста, а общение посвященного с божеством.
Бакст создал комнату девушки высокой, прохладной, бело-голубой. В алькове под огромным кисейным пологом стояла кровать девушки, рядом была вышитая ширма; возле одной стены были поставлены обитая розовым кретоном кушетка, белый столик и на нем белая ваза с букетом роз. С обоих боков и сзади огромные двухстворчатые окна во всю высоту стены открываются в ночные сады.
Бакст хотел подвесить к потолку между центром комнаты и окном клетку с двумя канарейками. Но Нижинский спросил: «А как же я тогда попаду внутрь?» Каждый раз, когда клетку снимали и перевешивали на новое место, Бакст менял ее положение почти со слезами.
Знаменитый завершающий прыжок Нижинского в «Видении», когда он одним движением перелетал через всю сцену — от ее переднего края до заднего, был изумительным достижением, настоящим подвигом. Из-за того, что все постоянно при мысли о Нижинском вспоминали этот прыжок, роль Видения, которую он вначале очень любил, стала его почти раздражать. Именно поэтому он однажды сказал: «Я не прыгун, я артист!» После первого представления «Видения» Маринелли, лондонский импресарио труппы, попросил Василия, чтобы тот показал ему балетные туфли Вацлава, — желал увидеть, резиновые у них подошвы или нет. Многие другие люди осматривали сцену, чтобы проверить, нет ли на ней люков или других механических приспособлений. Кокто и другие, когда Нижинский входил за кулисы, осторожно всматривались в него почти так, словно хотели выяснить, не прячет ли он в туфлях колдовские амулеты, которые ему помогают.
На премьере Жан-Луи Водуайе, поэт, который подал идею этого балета, подошел к Фокину, хореографу «Видения», почти плача от благодарности, и сказал Фокину, что тот создал совершенное произведение, что в этом балете больше Готье, чем в самом стихотворении, что это триумф, а Фокин — гений. Фокин попытался остановить его, говорил о своей собственной роли в создании балета, что она не так уж велика, и напомнил, что, в конце концов, сам поэт тоже кое-что сделал для «Видения». «Ничего не сделал! — крикнул Водуайе. — Я только представил Теофиля Готье Мишелю Фокину».
Во время спектаклей за кулисами толпилось столько зрителей, ожидавших завершающего прыжка, что электрики и рабочие сцены сердито кричали на очень видных в обществе людей — друзей Дягилева или Астрюка, которых околдовало это удивительное явление. В конце концов пришлось особым правилом запретить им находиться там, поскольку это сильно мешало работе техников.
Я впервые смотрела «Видение» из-за кулис уже в Лондоне и удивилась, когда меня попросили освободить проход. Четыре человека — массажист Нижинского по имени мистер Вильямс, главный реквизитор, Мишель и Василий — скрестили свои восемь рук, образовав из них сеть, и я в изумлении увидела, как в эту сеть приземлился Нижинский. Он стоял, тяжело дыша, под шипящими лампами (это были «солнечные» прожектора), Вильямс массировал ему сердце, а Василий прикладывал холодные мокрые полотенца к его лицу.
Самый первый эскиз костюма для роли Видения Бакст нарисовал на самом Нижинском — сделал набросок на рубашке, в которую Нижинский был одет. Бакст раскрасил образцы шелковой чесучи в различные цвета — обычный розовый, розовато-лиловый, несколько темно-красных и много разных ярко-розовых. Эти образцы были отданы Марии Степановне, чтобы она заказала окрасить в такие цвета рулоны ткани. Лепестки розы Бакст вырезал из материи сам. Некоторые из них должны были быть тугими, другие свисать свободно, и он давал Марии Степановне указания о том, как их пришивать; в результате костюм создавался заново каждый раз, когда Нижинский танцевал эту роль. Это был плотно облегающий комбинезон из тонкой эластичной шелковой ткани, в который Нижинского зашивали; костюм закрывал все его тело, кроме части груди и рук, на предплечья которых были надеты кольца из шелковых лепестков розы. Этот комбинезон был обшит листьями розы, которые Бакст окрашивал, когда возникала необходимость. Некоторые из них имели рваные края, словно были с увядающего цветка; другие были жесткими и прочными. Были еще и такие, что изгибались как