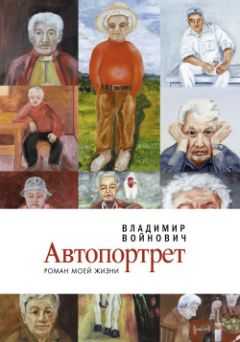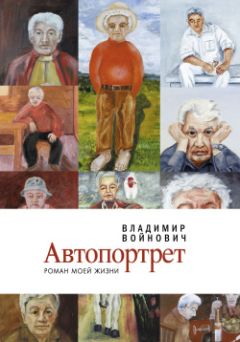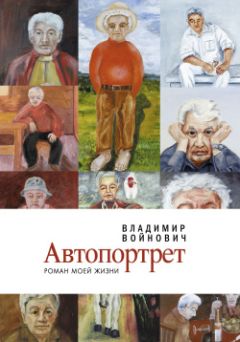— Спаситё!
Оказалось, это наши соседи Макарычевы, Иван и его четырнадцатилетний сын Гурька, тонут. Вечером Иван, расконвоированный заключенный, отбывавший срок неподалеку, самовольно пришел из лагеря и благополучно пересек реку. Лед был тонок, но его одного выдержал. Обратно он взял в провожатые Гурьку. И вдвоем они провалились. В полынье барахтаются, кричат. Мать Гурькина тоже по льду мечется, кричит: «Гуренька! Гуренька!» Тянет руку к сыну, он тянется к ней, но в него вцепился отец. Гурька кричит: «Папа, пусти!» Папа не пускает, но вопит: «Спаситё!» Мать тоже провалилась, но, подминая под себя ломающийся лед и один валенок утопив, как-то на лед выползла и опять назад тянется. Мужики, привязав длинные веревки к ботам, швыряют их утопающим, часто попадая им в голову. Боты обледенели, у тонущих руки замерзли, силы кончаются. Ивану кричат: «Отпусти сына! Его вытащим, а потом и тебя!» Но он ополоумел, не отцепляется и все кричит: «Спаситё!»
Рядом на берегу лежали лодки. Если бы с самого начала взять одну да пробить дорогу во льду, можно было до тонущих доплыть и взять их на борт. Но мужики все швыряют боты, а Гурькин отец все кричит, но чем дальше, тем реже и безнадежней. И вот — тишина. На этом берегу стоит молчаливый народ. У того берега полынья, и в ней две шапки покачиваются, как поплавки.
— Эх! — вдруг прозвучал веселый и озорной голос однорукого Васьки Проворова. — Пойду и я тонуть к… матери!
Он столкнул лодку с берега, к нему впрыгнул еще ктото, за несколько секунд они добрались до полыньи, еще через минуту утопленники лежали рядом на берегу, и мать, припадая к посиневшему телу сына, выла дико, дурно и однотонно. Ктото предложил попробовать утопленников откачать, но Васька только махнул рукой, хотя шанс, возможно, еще имелся…
Эту картину — как тонули отец с сыном на виду всей бессмысленно суетившейся деревни — я запомнил навсегда, часто видел в ночных кошмарах и вспоминал, когда слышал выражение «идиотизм деревенской жизни».
Большая победа над Германией совпала с моей личной, тоже значительной. За несколько дней до того мой сосед и сверстник Тришка показывал мне перочинный нож с лезвиями, большим и малым, с ножничками, открывалкой для консервов и шилом. Он все эти лезвия раскрывал и закрывал, потом оставил раскрытым только маленькое и предложил:
— Хочешь, я тебя ножом ударю?
Я в серьезность его намерения не поверил и в шутку сказал: «Ну, ударь». Тришка тут же размахнулся и ударил меня ножом в левую бровь. Еще бы на полсантиметра ниже — и я бы остался без глаза. Рана оказалась неглубокая, но кровь текла обильно. Зажав рану рукой, я побежал домой, где соврал матери, что сам упал и обо чтото порезался. Шрам остался у меня на всю жизнь. Я был потрясен поступком Тришки, я не понимал, как он мог ударить меня и за что. И воспылал жаждой мести.
Обзаведясь довольно толстой палкой, я без нее из дома не выходил. Дня два ходил безрезультатно, Тришки во дворе не было. На третий день мать послала меня по воду. Я взял ведро и палку, вышел во двор и тут же встретил Тришку. Он шел мне навстречу, теперь уже не с перочинным ножом, а с настоящей финкой с наборной ручкой. Он шел и любовался лезвием, сверкавшим на солнце.
— Ну, что, — увидев меня, сказал он враждебно, — мало попало?
— Мало, — сказал я. И стукнул его палкой по голове — раз, два, три…
Он закрывался руками, я бил по рукам. В конце концов он бросил нож и с криком кинулся от меня бежать. А я бросил ведро и палку и побежал в другую сторону — домой.
Мать, увидев меня, всполошилась:
— Что с тобой, почему ты так запыхался? Почему ты такой бледный? — И, не дождавшись ответа, вдруг прокричала: — Война кончилась! Ты слышишь? Война кончилась!
Она обняла меня и заплакала. А потом сказала:
— Беги в Назарово, скажи тете Соне, что Володю уже не убьют.
И я побежал, как тот первый марафонец, что нес соплеменникам весть о победе. Правда, моя дистанция была покороче — километров пятьшесть. Я влетел в Назарово и, прежде чем завернуть к тете Соне, обежал всю деревню и у всех изб кричал, что проклятая война кончилась. В деревне радио не было, поэтому весть о победе назаровцы узнали не от Левитана, а от меня.
В ноябре 1945 года мы по приглашению тети Ани вернулись в Запорожье, вернее в его остатки. Остатки состояли из лежавшего посередине и застроенного глиняными украинскими мазанками села Вознесеновка и более или менее сохранившейся старой части города, где главную улицу имени Карла Маркса многие люди с дореволюционных времен звали Соборной. Старая часть немцами при отступлении была взорвана только частично, в основном самые большие дома, да и то не все. А вот шестой поселок, где мы жили до войны, был превращен в сплошные уродливые нагромождения битых кирпичей, подобные разрушения второй раз в жизни я видел только сорок пять лет спустя в Спитаке, армянском городе, пережившем (вернее, не пережившем) землетрясение.
Тетя Аня, дядя Костя, бабушка, Сева и Витя жили в старой части города на улице Розы Люксембург, расположенной параллельно улице Карла Маркса и пересекавшей улицу Чекиста. Все пятеро членов этой семьи помещались в небольшой полуподвальной комнате двухэтажного дома, который сохранился (никому не был нужен) среди руин. С нашим приездом жильцов в комнате стало девять, и все мы, за исключением тети Ани, мамы и бабушки, спали вповалку на ковре, расстеленном по всей комнате. Этот бухарский ковер, тяжелый, толстый и грубый, куплен был мамой еще в Ленинабаде в период нашего очередного (но относительного, ввиду отсутствия отца) благополучия. Ковер был настенный, но в наших скитаниях, когда не хватало кроватей, стелился на пол и был ложем для меня и для приезжавших к нам гостей еще много лет.
В Запорожье у нас объявилась еще одна родственница, тетя Галя, жена погибшего на войне моего дяди по отцу, которого звали так же, как и маминого брата — Володя. Тетя Галя вместе с двумя детьми, Юрой и Женей, занимала соседнюю с нами комнату, а еще с ними жил отец тети Гали, которого все звали дедушка Напмэр. Напмэр — это сокращение от слова «например», которое дедушка употреблял кстати и некстати.
— Я, напмэр, вчора був на базари и купыв, напмэр, галоши…
Городской базар был рядом с нами. Там можно было купить чуни, то есть галоши, склеенные из автомобильной резины, мамалыгу, американские сигареты, белые лепешки из мела для побелки стен, водопроводную воду — рубль кружка, самодельные зажигалки из винтовочных патронов, полевые сумки, трофейные немецкие часыштамповку, ржавые гвозди и прочие полезные и бесполезные вещи. Там же располагались рисовальщики и вырезальщики профилей, гадальщики с морскими свинками, а картежные шулеры завлекали дураков игрой в три листика: из трех, положенных вниз картинкой, тузов надо открыть один правильный, что на самом деле получается только у ассистентов, которые создают иллюзию возможности выигрыша. Среди проигравшихся почемуто часто бывали доверчивые деревенские девки. Они продували все, что завязано у них было в узелках, хранилось за пазухой и в рейтузах, а потом стояли тут же и выли: «Дяденька, виддай гроши!» Но дяденька был жестокий, не для того он сюда пришел, чтобы отдавать выдуренное. Там же сидели, выставив свои обрубки, нищие калеки.