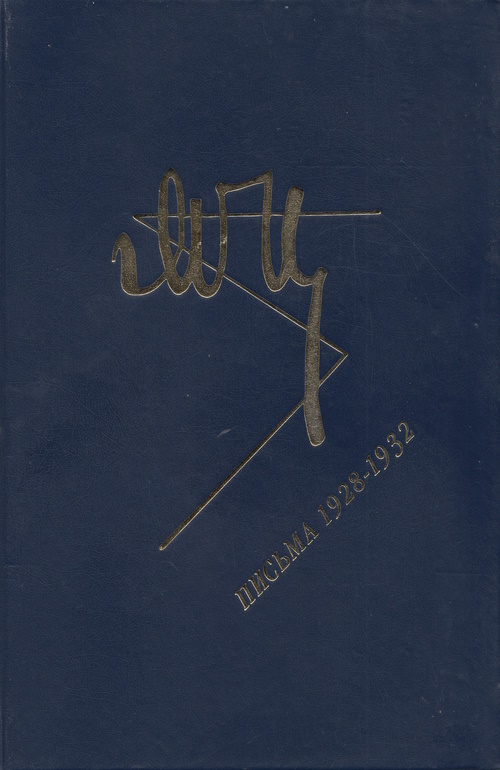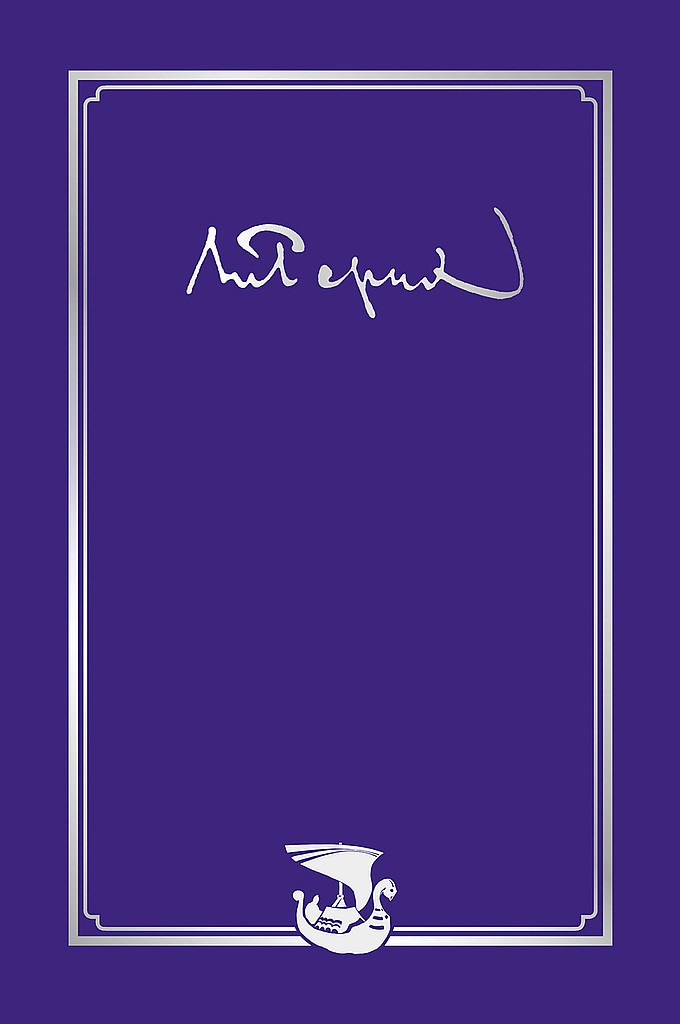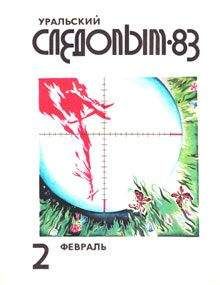оно излучало, и хорошим состоянием твоего духа. Я тоже верю, что у тебя накопилось много мыслей и опыта для того, чтобы перешагнуть какой-то порог в твоих исследованиях. Ты это, конечно, сделаешь. Большая страсть всегда вознаграждается. Я очень в это верю. Пусть тебя не смущает самореклама некоторых твоих коллег. Не надо, во имя большого самолюбия, тратить внимания на треск и суету, питающие мелкое. Как об этом говорит древнерусская письменность, «и память их погибе с шумом». Я думаю, что бог удачи, которого ты призываешь, снизойдет. Я думаю, что он снизойдет тогда, когда мы устроим нашу общую жизнь и не будем расстрачивать себя, своей души на одиночество, тревоги, сомнения. К сожалению, это придет не сразу. Комнату, о которой я писал, я пока не снимаю. Подожду тебя. Посмотрим и подумаем. Уж очень там много неудобств. Имею ее пока в запасе и ищу новых возможностей. Что касается академической комнаты, то она будет. Все зависит от срока перевода институтов в Ленинград. Он определен на 1 марта, но, конечно, задержки вероятны и даже неминуемы. Нам надо перебиться некоторое время. Каковы бы ни были неудобства, связанные с этим «перебиванием» (какое ужасное словообразование!), они будут с лихвой перекрыты нашим общением. Я много и довольно успешно занимаюсь. Результаты работы я еще никому не показывал, но, кажется, мне удалось показать и доказать, что фигуры Петрарки и Боккаччо, а с другой стороны Федора Курицына, протопопа Алексея и др. поняты не только общим, но и одним и тем же,
тем же самым потоком культурно-исторического движения. Границы этого движения оказываются не только очерченным западной, южной и серединной Европой, но простираются и на европейский восток и останавливаются только у границ Азии. Речь, следовательно, идет не о наличии изолированных и сосуществующих лишь во времени очагах новоевропейской, т. е. гуманистической культуры, но и о цепной связи их друг с другом и активном живом обмене веществ между ними. Это и есть мой вывод в самом широком, но потому и в самом неопределенном выражении. Самая же мысль принадлежит не мне, она принадлежит Николаю Павловичу Сидорову, который советовал мне поискать среди умственных течений Византии источников одинаково «напояющих» (др. русск. слово) гуманистическую мысль Мирандолы и русских свободомыслящих XVI века, что я и сделал. Его здоровье плохо. Хотя температура под влиянием пенициллина упала, но головные боли продолжаются почти что с прежней силой, а физическая слабость не дает ему говорить. Все же 25 с[его] м[есяца] Николай Павлович продиктовал дочери и просил передать мне: «Сегодня, первый раз, сквозь всю головную боль, прорвалась мысль о протопопе Алексее и др. как мне показалось (деятелей?) крупного национального и исторического значения. Больше объяснить сейчас не могу». Мне больно до слез…
Целую тебя, родная Наталинька. Пиши! Приезжай! Жду!
Саня
№ 304. А. И. Клибанов – Н. В. Ельциной
30.I.48 г.
Родная Наталинька,
вчера как-то нелепо сложился день – не удалось тебе написать. Хотя мои служебные обязанности сокращаются в связи с тем, что в ближайшие дни мы завершим упаковочные работы, но возникают всяческие новые хлопоты. Дело в том, что в связи с освобождением нами занимаемого помещения Академия Наук не имеет никакого другого помещения, которое она могла бы нам предоставить взамен. В работе нашего отдела никто не заинтересован, кое-кому он колет глаза и шокирует, особенно своим прошлым, и вот возник проект о переводе нас в Ленинград. Проект этот, конечно, никого из нас не устраивает и дело это может иметь для всех нас далеко идущие последствия. Поэтому вновь письма, переговоры, беготня. Шейнман болен, у него чуть ли не инфаркт. Вл. Дм. так устал от всех дрязг и хлопот, что не проявляет должной энергии, и мне опять приходится вертеться волчком, позабыв о связях Петрарки и Боккаччо с русскими свободомыслящими. Да, «покой нам только снится».
Ты же не принимай слишком близко к сердцу эти обстоятельства. Я в Ленинград не поеду и так или иначе останусь здесь, в Академии или где-либо в другом месте, не знаю, но скорее всего в Академии, где ко мне все хорошо относятся и ценят.
Каждый вечер, возвращаясь домой, смотрю на полочку, куда кладут адресованные мне письма, но полочка пуста, и мне становится пусто и не по себе.
Будь здорова, родная. Целую тебя нежно и много.
Сегодня иду в консерваторию слушать «Колокола» Рахманинова. Иду один и с болью буду ощущать твое отсутствие. Целую еще и еще. До следующего письма.
Саня
№ 305. А. И. Клибанов – Н. В. Ельциной
Москва, 1 февраля 48 г.
Родная Наталинька,
сегодня опять неудачно пытался связаться с тобой по телефону. Звонил примерно в 1 ч. 30 м. дня и никто не подошел на мой звонок. Вечером опять пойду на почтамт, авось на этот раз вечер окажется мудренее утра. Пока же продолжу письмо, вчера отосланное неоконченным. Я возвращаюсь к беседе с Николаем Павловичем. Уже когда я уходил, он обратился ко мне довольно для меня неожиданно: – «А я-то собирался Вас ругать, ну и ругать, да вот болезнь помешала». – «За что, Николай Павлович»? – «Во-первых за резкость, за пыл, вы вот так и рветесь в бой, например, ваше письмо о Тихомирове 213, если вы не убрали тех мест, которые я не мог принять, то что же получилось. Жаль, что нет с вами Натальи Владимировны, она бы осадила вас». – «Я убрал эти места из письма». – «Ну и хорошо сделали. Да ведь я вам скажу, что Тихомиров даже поступил благородно вот в том случае, когда отверг вашу статью. Он, вероятно, защищал своего покойного учителя Голубинского 214, о котором Вы, небось, понаписали критику». – «А еще за что ругаете, Николай Павлович?» – «Ну уж это совсем интимное, только не обидитесь?» – «Нет, конечно». – «Вам не надо писать стихи. Я старался припомнить как-то то, что Вы написали, ничего не мог вспомнить. У ваших стихов нет устойчивого бытия. Они мимолетны, не остаются. Помните у Фета, – Николай Павлович процитировал на память стихотворение, я его не помню о листке засохшем, упавшем, но преданном вечности в песнопеньи, – или вот у Пушкина – «В багрец и золото одетые леса»! Это вечно. А вы, очевидно, подпали под влияние этого, как его, Наталья Владимировна у меня о нем спрашивала?» – Пастернака? – «Да, Пастернака».
В это время Елизавета Феофилактовна принесла мужу тарелку бульона, от которого пахло морковью и болезнями далекого детства, я ретировался, чтобы больше не